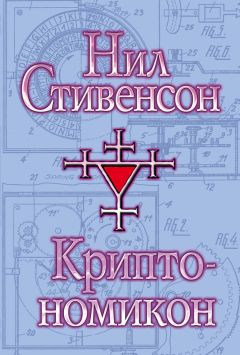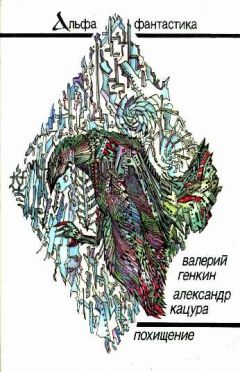Валерий Генкин - Санки, козел, паровоз
Жму руку.
Павловский ЮрийВиталий Затуловский (входит)
Именно здесь, в этой ракушке на колесах, отъединенный от мира, он обыкновенно воскрешал прошлое. Вытаскивал — по крошке, по обломку, по мгновенью из могилы времени, помещал между глазами и ветровым стеклом, развешивал вокруг себя звуки, запахи, картинки — застывшие и подвижные, а те, что подвижные, еще и по-разному — то шустрые, то неторопливые, как бы задумчивые. И еще — о сладость! — он мог распорядиться ими по своей воле, прогнать, пригласить новые, остановить, ускорить. Вот явились красные туфли, греческие, помнишь? А где купили, помнишь? Правильно, в самом конце Комсомольского проспекта, где он утыкается в Лужниковский мост, приехали с Аликом и Майей… Словечки твои тут как тут. Это удивительно, сказала Марья Дмигревна и так удивилась, что с лестницы свалилась. Зря смеешься, я много что могу вспомнить, стоит только сесть в машину и скомандовать: «Ко мне!» Вот ты тоненько так выводишь: «В лунном сиянье снег серебрится…» Еще здесь стыдиться хорошо. Вроде один — а такой стыд накатит. Ведь в тот день я все знал, а сбежал, трусливо удрал, оставил тебя с сиделкой. Знаю, ты ничего не чувствовала, тебя как бы уже и не было — но ведь была же! Ноги остыли, а руки еще теплые. Куприн вот пожелал, чтобы его, умирающего, держала за руку жена. Кто меня держать станет? Одну руку — Лена, если не струсит, как я, другую — за себя и тебя — Ольга, если… поспеет если. Из Лондона своего. А я тебя не держал. Удрал. Сидел на работе, звонка ждал. И вот — облегчение: всё, больше тебе ничего не грозит.
— Народу-то сколько!
Он обалдело кричит, впервые попав в метро, ошарашенный светом, грохотом, толпой. Они едут с вокзала, как выяснилось, не к себе на Псковский, а на Герцена к тете Рахили, в длинную комнату-троллейбус, где ему предстояло жить, пока в их квартире наводили порядок после трехлетнего отсутствия хозяев. Что уж там было не так, он не знал. Не читал еще папиных писем с фронта и маминых ответов, откуда следовало, что жили у них чужие люди, сохранилась там только кое-какая мебель, а так все пришло в великое разорение. Рахиль же оставалась в Москве, у нее ничего не украли, было чисто и тепло. От круглой черной печки к форточке идет железная труба. Мама купает его в оцинкованной ванночке, предварительно оценив — локтем — температуру. А еще он запомнил восхитительный вкус солоноватого картофельного отвара. О, послевоенная еда! На первейшем месте — американская консервированная колбаса в жестяном цилиндре с принайтовленным ключиком. Ключик снабжен разрезом, в разрез вставляется конец полоски, бегущей по окружности у самого торца банки, и ты крутишь ключик, наматывая на него нежную мягонькую ленту, одновременно вдыхая выпущенный на волю мясной дух. Вот торец банки снят, и ты вытряхиваешь колбасный столбик, густо обмазанный белым жиром, на тарелку. Потом острым широким ножом отделяется шайба, кладется на толстый кусок ржаного хлеба и — со сладким-то чаем, ой, не могу больше. На втором месте — американская же тушенка. Банка такая же, но содержимое погрубее. Его лучше разогреть, перемешав с отварной картошкой. Ну, лярд большого впечатления не произвел, бабушка на нем жарила, был яичный порошок, вроде бы из него делали омлеты, а суфле, сладенькое синеватое молочко, пилось с удовольствием. Национальность этого напитка сбежала из памяти. Вот патока, заменявшая варенье, точно была нашей, советской. И еще одна вошедшая в семейную историю его фраза: «Какая вкусная картошка». Это — о впервые увиденном яблоке.
Через пару месяцев Виталика перевезли на Псковский. Он угнездился в этом мире, полном запахов:
духов мамы и — особо тонких, прохладных — очередной жены дедова брата, медицинского полковника дяди Мули, Марии Борисовны Затуловской, урожденной Монфор;
камфоры (фор-фор) — ею пахнет больное ухо, а болели уши постоянно;
котлет (о! котлеты — свежепожаренные, пышные, испускающие сок на картофельное пюре, или же холодные, плотные, стиснутые в тесной миске под крышкой — оттуда их, да на хлеб, да… Что, повторяюсь? Очень хотелось есть, вот вспоминаю, рассказываю тебе — и снова хочу, хотя только-только из-за стола);
мокрой шерсти — снег тает на шарфе;
слез — запах детских слез, запах обиды;
табака — стылый табачный дух в комнате деда;
книг — там же, у деда, — особенный запах, сам по себе, сравнить не с чем, разве с пылью;
Нюты — кисловатый, идущий от Нюты дух, страшно, по словам бабы Жени, чистоплотной, но тянуло от нее чем-то створоженным;
мокрого белья, керосинки, простого мыла…
На даче в его жизнь вплелись другие запахи — но это особая тема, отложим. Он привыкал, осваивался в тесном пространстве, полном вещей: корыта и ванночки по стенам в коридоре; мраморный самоварный столик; монументальный буфет с колоннами и зеркальными гранеными окошками; кровати с блестящими шариками (его — с деревянным барьерчиком); безразмерный книжный шкаф деда, неряшливо набитый медицинскими томами, блокнотами, тетрадями, желтоватыми бумагами; кувшин для кипяченой воды, в желтый цветочек, с треснувшей крышкой; швейная машинка, естественно, «Зингер», черно-золотая тяжелая красавица; круглый стол под шерстяной коричневой скатертью; пластмассовая коробка с пуговицами и пряжками; деревянный грибок для штопки, ножка отвинчивается; собака — в ее ватное нутро втыкали булавки и иголки. Сострадательное сердце понуждало его все это железо из собаки извлекать. А жила собака под откидной крышкой столика красного дерева, не столько даже столика, сколько большой шкатулки на высокой ноге — в ней было несколько отделений, куда складывали квитанции, рецепты, всякие прочие бумажки и мелкие предметы, но интерес представляла только ниша со своей отдельной съемной крышечкой, под которой и обитал бело-желтый пес. Виталик любил ощупывать животное и, обнаружив острый предмет, упорными движениями пальцев продвигал его к поверхности, пока наконец не вытаскивал наружу.
Тиф. Больница. Тетя Рая, вдова одного из многочисленных бабушкиных братьев, принесла глиняную лошадку, она — лошадка, не тетя Рая — скачет по складкам одеяла. Она — тетя Рая, не лошадка — внедряется в его жизнь надолго. Известный в Москве детский врач, профессор, любимая ученица академика Сперанского, чутко следит за хилым, обильно болеющим ребенком. На эту вигилию она заступила, еще когда мама лежала в роддоме, что явствует из Лелиных записок на волю.
Первый запавший в память день рождения. Пять лет? Подарки: сабля в серебряных картонных ножнах; кошка с шариком в передних лапах, на хвост нажмешь — катит перед собой мячик; игра «Поймай рыбку» — удочкой с магнитом вытаскиваешь бумажных рыбок из картонной выгородки; еще игра с непонятным именем «гальма», какое-то ответвление нард. Мама в красном платье, сколотом у шеи гранатовой брошкой-сердечком, с папиросой — первый отчетливый кадр мамы, застрявший в памяти. Прежние ее образы как-то растаяли — Нюту помнил, как же, козел этот, паровоз, санки, потом она ему еще плитку электрическую из картона склеила, и они разогревали на ней крохотные алюминиевые кастрюльки с зелеными щами из нарезанных листьев подорожника. Бабу Женю помнил — котлеты! А маму — только с этой картинки: красные припухлые губы, красное платье, красная брошь — и папироса. Стишков чувствительных тетрадь она к тому времени явно забыла. Еще в альбоме довоенных фотографий — любил листать его с ранних лет — он нашел снимок, где мама стояла в шеренге девушек на уроке физкультуры в фабрично-заводском училище. Пампушка. Или пупсик, как называл ее папа. Коротенькая, с полными ногами и внушительной грудью, обтянутой темной майкой. Глаза невеселые. Такой она была в разгар романа с роковым Ростей. Ну вот, у него — Виталика, не Рости — температура и привычно болит ухо. Распухли желёзки, такие шарики-желваки на шее (Господи, почему тогда вечно распухали желёзки, а сейчас ни у кого не распухают?) Гости — родня и мамины сослуживцы — приторно и нудно сочувствуют, бедный мальчик, ах-ах. Дядя Моисей, бабы-Женин брат, дарит карандаши и ластики (дармовые, он работает бухгалтером в какой-то конторе), его жена Нюра (видано ли — пожилая еврейка с именем Нюра?) причитает вечно рыдающим голосом, гудит полковничьим басом дядя Муля, источает сочувственный аромат его французская супруга. Но вот гости уходят, и он просит: мама, почитай. И она читает. Про русалку, раздобывшую пару ног — уж как она разместила их подле довольно-таки порядочного хвоста? Мама разводит руками. Или привычный набор стихов. Шаловливые ручонки, нет покоя мне от вас, так и жду, что натворите вы каких-нибудь проказ. Мишка, мишка, как не стыдно, вылезай из-под комода… Филин очки роговые поправил, выучил всех выполнению правил. Эй, смотри, смотри, у речки сняли кожу человечки. Становится привычно страшно. Человечки без кожи. Ноги — длинные болталки, вместо крылышек две палки… И конец, совершенно сбивающий с толку: без чешуйки, брат, шалишь! Как это — шалить без чешуйки? Мама опять не знает. Ну ничего не знает!.. Или еще: у сороконожки народились крошки, что за восхищенье, радость без конца! Но дальше возникают б-о-ольшие сложности — калош не напасешься. Всяческие описания природы, несмотря на благозвучие и — как выяснилось позже — принадлежность великим перьям, вызывали скуку, а потому хитро использовались мамой и бабушкой, чтобы Виталика поскорее усыпить. Правда, одну историю про грача, что гулял по весеннему косогору, он полюбил и всегда отчетливо представлял себе эту картину: крупная птица в длинных фиолетовых перьях неспешно шлепает вдоль дороги, собирая своим деткам больших питательных червей. Непонятные слова — штудирует, лаборатория — ему совсем не мешали, он даже маму про них не спрашивал.