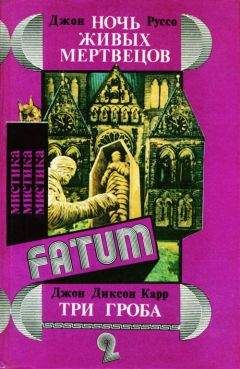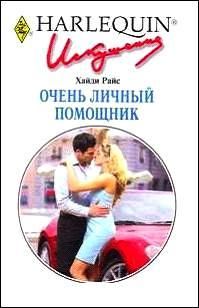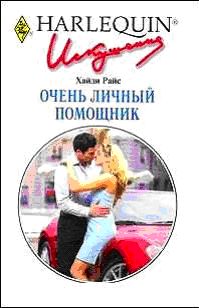Норман Мейлер - Крутые парни не танцуют
Итак, тем утром в Провинстауне, когда я пытался забыть обо всем, что на меня свалилось, мне – повторю – было почти приятно вспомнить свое печальное расставание с Экзетером. Двадцать лет назад, в чудесный майский денек, я навсегда распрощался с колледжем. Я уложил свое барахло в два вещевых мешка, впихнул их вместе с собой в автобус, а отец (которому я уже позвонил – звонить матери мне не хватило духу) прилетел челночным рейсом в Бостон, чтобы меня встретить. Мы напились. Я полюбил бы его за один этот вечер. Мой отец (как вы, должно быть, поняли из нашего телефонного разговора) редко открывал рот, если это не было абсолютно необходимо, но вас успокаивало даже его молчание. Росту в нем было шесть футов три дюйма, а весил он тогда, на пятидесятом году, двести восемьдесят фунтов. Сорок из них явно были лишними. Они опоясывали его спереди, как мягкий предохранительный бампер на автомобильчике в парке аттракционов, и из-за этого он страдал одышкой. Рано поседевшая шевелюра, кирпично-красное лицо и голубые глаза делали его похожим на самого огромного, самого хитрого и самого продажного старого детектива в городе, но это впечатление было абсолютно ложным: он всегда ненавидел копов. Его старший брат, которого он никогда не любил, жил и умер полицейским.
В тот вечер, когда мы бок о бок стояли в ирландском баре (стойка перед нами уходила куда-то во тьму и была такой длинной, что, но выражению отца, хоть собак по ней гоняй), он проглотил четвертую порцию виски – как и первые три, неразбавленную – и сказал: «Значит, марихуана?»
Я кивнул.
«И как ты умудрился влипнуть?»
Он имел в виду следующее: неужели ты так глуп, что тебя застукали добропорядочные американцы? Я знал, какого он мнения об их умственном уровне. «Беда некоторых людей в том, – сказал он как-то раз в споре с моей матерью, – что они думают, будто покупают свои шмотки в одном магазине с Господом Богом». Поэтому я всегда смотрел на добропорядочных американцев его глазами. А Биг-Мак видел в них только с иголочки одетых среброволосых тупиц в серых костюмах и с таким шикарным выговором, словно и впрямь сам Господь избрал их эталонами благопристойности.
«Да что-то расслабился, – ответил я. – Может, смеялся слишком много». И я описал ему утро того дня, когда меня поймали (это случилось вечером). Я участвовал в парусных гонках на озере близ Экзетера, названия которого теперь уже не помню (возмездие за траву!), и все яхты заштилели. Гонки чуть не пришлось отменить. Я ничего не смыслил в парусном спорте, но им увлекался мой товарищ по общежитию – он и привел меня в команду к старому учителю истории, вполне соответствовавшему образу добропорядочного американца, который сложился у моего отца. Он был хорошим капитаном – возможно, лучшим в школе – и отнесся к этим гонкам с таким презрением, что даже взял с собой полного профана в моем лице. Однако день был безветренный, и удача отвернулась от нас. Ветер то стихал вовсе, то слегка подгонял нас вперед слабым дуновением, то опять пропадал. В конце концов мы стали у мачты – наш пустой спинакер болтался на носу – и принялись смотреть, как нас медленно обгоняет другая яхта. У ее руля была пожилая леди. Она находилась гораздо ближе нас к берегу и рассчитала, что если ветра сегодня так и не будет, то ее вынесет вперед едва заметным прибрежным течением, которым давала о себе знать далекая река. Ее расчет оказался верным. Сначала она отставала от нас на три корпуса, а потом обошла на восемь, пока мы неподвижно стояли в пятистах ярдах от берега. Нас оттеснили на второе место – эта лисица перехитрила нашего старого лиса.
Когда нам с приятелем надоело торчать на воде без движения, мы начали обмениваться шутками. Наш капитан терпел это, сколько мог, но обвисший спинакер все-таки доконал его. Он повернулся ко мне и самым что ни на есть менторским тоном сказал: «Я бы на твоем месте говорил поменьше. Ты обезветриваешь парус».
Я поведал отцу эту историю, и мы с ним так расхохотались, что нам пришлось вцепиться друг в друга, чтобы сохранить равновесие. «Да, – заметил Биг-Мак, – если у вас там такая публика, надо радоваться, что тебя вышибли».
Это избавило меня от необходимости рассказывать, как я вернулся к себе в комнату, разбираемый одновременно смехом и яростью. Чего мне стоило промолчать и не огрызнуться. Года в Экзетере явно оказалось маловато, чтобы привыкнуть к манере здешних заправил. (Англичанин дерет нос, а ирландец ходит бос!)
«Я попробую объяснить это твоей матери», – сказал Биг-Мак.
«Спасибо». Я знал, что они с матерью уже с год как не разговаривают, но все же не мог взять объяснение на себя. Она в жизни бы меня не поняла. С моих одиннадцати до тех пор, пока мне не исполнилось тринадцать (тогда я стал возвращаться домой попозже), она каждый вечер усаживалась рядом со мной, чтобы прочесть один стих из «Поэтической сокровищницы» Луиса Антермайера[10]. К ее (и Антермайера) чести, следует заметить, что, пройдя через это испытание, я не возненавидел поэзию – еще одна причина, по которой я не мог рассказать матери обо всем самостоятельно.
Конечно, мне пришлось слушать, как отец повторяет перед каждой новой порцией: «Ну, обезветрим парус». Подобно многим славным любителям выпить, отец имел дурную привычку употреблять одну и ту же присказку для разных стаканов – но вдруг в этот момент мои воспоминания были прерваны. Телефон зазвонил во второй раз за это утро. Я поднял трубку, уже не ожидая услышать ничего хорошего.
Это оказался хозяин «Вдовьей дорожки».
– Мистер Мадден, – произнес он, – извините, что беспокою, но у меня сложилось впечатление, что вы знакомы с той парой – помните, которые сидели на днях у нас в баре вместе с вами?
– Да-да, как же. – сказал я, – мы с ними отлично поболтали. Откуда они – с Запада, что ли?
– За обедом, – ответил он, – они сказали мне, что живут в Калифорнии.
– Верно, теперь припоминаю, – поддакнул я.
– Я звоню только потому, что их машина до сих пор стоит на нашей площадке.
– Вот странно, – сказал я. – Вы уверены, что это их?
– Да, – ответил он. – Думаю, да. Я ее запомнил, еще когда они приехали.
– Вот странно, – повторил я. Руку с наколкой вдруг сильно засаднило.
– Честно говоря, – сказал он, – я надеялся, может, вы знаете, где они. – Пауза. – Стало быть, не знаете.
– Нет, – сказал я. – Не знаю.
– На его кредитной карточке стояло имя Леонард Пангборн. Если они не заберут машину через день-два, я, пожалуй, позвоню в «Визу».
– Позвоните.
– А имени леди вы не знаете?
– Она мне говорила, но простите, провалиться мне, если помню. Если вдруг вспомню, я вам сообщу. А вот мужчина – точно Пангборн.
– Извините, мистер Мадден, что побеспокоил вас с утра, но все это так странно.
Да уж. После этого звонка я утратил способность к концентрации. Все мои мысли галопом неслись в лес. Выясни! Но это порождало во мне неудержимую панику. Я был похож на человека, которому сказали, что он может излечиться от смертельной болезни, прыгнув в воду с пятидесятифутового утеса. «Нет, – отвечает он, – я останусь в постели. Уж лучше помру». Что ему беречь? А мне? Но паника побеждала здравый смысл. Меня словно предупредили во сне, что под тем деревом в трурских лесах прячется весь цвет пагубы Адова Городка. Значит, появись я там – и она проникнет в меня? Этого я боялся?
Сидя рядом с телефоном и мучаясь страхом, неотличимым от физического недомогания – мой нос был холоднее ног, а легкие точно жгло огнем, – я начал тяжелый труд по восстановлению душевного равновесия. Сколько раз по утрам, после свары за завтраком, я уходил в свою маленькую комнатку на верхнем этаже, откуда можно было смотреть на бухту, и пытался писать, но каждое утро мне приходилось заново учиться отбрасывать – этот процесс напоминал удаление из супа несъедобных кусочков – тот житейский мусор, который мог сегодня помешать работе. Так что я имел навыки сосредоточения, приобретенные сначала в тюрьме, а потом дома, когда старался ежеутренне выполнять свою норму независимо от того, насколько бурным был очередной скандал с женой; я умел обуздывать свои мысли. Если теперь передо мной бушевали вышедшие из-под контроля волны – что ж, значит, мне следовало опять сосредоточиться на думах об отце и перестать терзаться вопросами, на которые нет ответа. «Не пытайся вспомнить то, чего вспомнить не можешь» – я всегда придерживался этого правила. Память сродни мужской силе. Стараться вспомнить то, что от тебя ускользает, – пусть даже жизненно важное, – это все равно что призывать эрекцию, когда женщина лежит перед тобой разверстая, но твой член – экий капризный стервец! – решительно, упрямо, бесповоротно отказывается пошевелиться. И ты вынужден бросить. Возможно, я вспомню, что случилось позапрошлой ночью, а может, и нет – это выяснится позже, – но пока мне надо огородить свой страх стеной. И я чувствовал, как всякое воспоминание об отце ложится в эту стену прочным камнем.