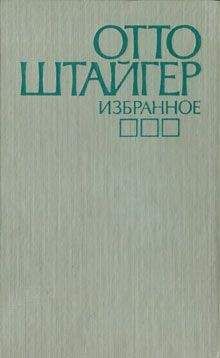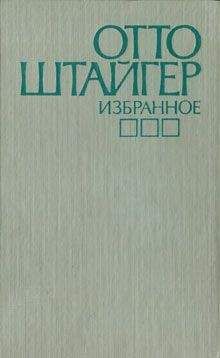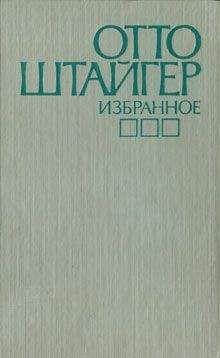Ханс Плешински - Портрет Невидимого
Убирая квартиру Фолькера, я нашел черно-белые фотоснимки; пейзаж на них показался мне знакомым, но вспомнить, что это, я не мог. Кадры из «Фотоувеличения»? Но как они попали сюда? Постепенно, вооружившись лупой, я все-таки разобрался. Это был не Дэвид Хеммингс, сфотографированный в парке из «Фотоувеличения». Это был — на фоне тех же деревьев, той же изгороди, при той же погоде и освещении — Фолькер, в мягкой шляпе с полями и длинном, до лодыжек, замшевом пальто, заснятый на том же месте в Лондоне.
Мои причитания над умершим… Как мало света я могу внести в чащу прошлого! Новые телефонные справочники. В них опять прокралась фамилия Фолькера. Номер одного из бесплотных духов: 29 52 41.
— Был ли Даниэль Кон-Бендит[117] красивым мужчиной?
— Он приезжал несколько раз из Парижа и выступал здесь с речами против вьетнамской войны и против законов о чрезвычайном положении. Таким способом, говорил, можно отобрать все гражданские свободы. Неслыханно! А СДПГ их поддержала. Мы не должны были допустить, чтобы ветераны войны из Бонна… Нет, красивым Кон-Бендит не был…
— Но он и сейчас хорошо выглядит: светловолосый..
— Смазливый, да, а сексуальным он не казался. В отличие от Дучке.[118] О Руди Дучке мечтали не только студентки. Был у него этакий мефистофельский глянец…
— А Адорно? Ведь он, как философ, в 68-м еще играл какую-то роль?
Фолькер от возмущения даже всплеснул руками:
— Роль? Если раньше все мы, подражая Мартину Хайдеггеру… говорили, например, так: ускорение и опредмечивание разсуществляет Сущее, оставляя его в заброшенности… то благодаря Адорно мы взяли на себя труд быть точными в формулировках, как он: Единственное достойное отношение к искусству, еще возможное в нашей катастрофически омраченной действительности, — воспринимать его настолько же серьезно, насколько серьезным стал ход мировой истории.
— Ты еще помнишь это наизусть?
— Я дышал этим языком и этими мыслями. Думаешь, они утратили значимость? Видел бы ты этих стариков, когда они еще не были стариками! Во всем, что касается проникновения за внешнюю видимость событий, я еще более ценю мнения Эрнста Блоха,[119] хотя он каждый раз, когда давал интервью, почти съедал свою трубку. Все мироздание есть вопрошание о смысле собственного бытия, и оно тысячами глаз, на тысячах путей предопределенного человеческого посредничества всматривается в умеющих говорить — чтобы добиться от них внятного ответа, всматривается в искателей ключей — чтобы получить разгадку. Где ты сегодня еще найдешь такое восхваление жизни?
— А Вальтер Йене?..[120]
— Милый, но более плоский гуманизм.
— А Ханна Арендт?
— Я ее побаивался, как человека. Облако сигаретного дыма, большие зубы, бурение духовных скважин, не всегда логически между собой связанных… Но Арендт после иерусалимского процесса над Эйхманом бросила такую идею: Зло может опустошить весь мир именно потому, что оно, как грибница, распространяется по поверхности. Глубоко же и радикально только добро… Но ты что, хочешь, чтобы я провел для тебя философский семинар? Тогда все кипело. Все понимали, что страна не продержится, как раньше, на одном лишь усердии и лицемерии. Когда Адорно своим пронзительным голосом предостерегал от возвращения варваров, которые изобретут новые формы угнетения — например, апелляцию к массовому вкусу, — в большой университетской аудитории нельзя было найти даже стоячего места. Мы хотели, чтобы нас просветили, хотели знать, в какой степени мы опять стали зависимыми от власти… Бедный, деликатный Теодор Визенгрунд Адорно! Он не замечал, что студенты с какого-то момента уже не слушают докладов, а хотят перейти к делу. Они думали, что старый профессор в знак протеста против гонки вооружений, против законов о чрезвычайном положении выйдет на уличную демонстрацию. Но на это он не был способен. И тогда члены Союза социалистических немецких студентов освистали его. Одна студентка обнажила перед шестидесятилетним преподавателем грудь. Он не выдержал провокаций. Ушел из университета. И вскоре умер от инфаркта. В условиях господства крупной промышленности любовь из обращения изымается.
Во вьетнамском ресторанчике или другом подобном заведении Фолькер обычно говорил, а я слушал. Но о прошлом он рассказывал очень редко. Все же я знаю, что в самый горячий период студенческих волнений 1968-го года моего друга выбрали делегатом от отделения германистики.
— Тогда многое начиналось. В то время мы, по существу, заново создали Федеративную республику. После демократии, навязанной нам союзниками, наконец пришла та демократия, которую поддерживали и практиковали мы сами. Мы были по горло сыты любезностями Людвига Эрхардта, нас тошнило от самодовольной улыбки Курта-Георга Кизингера.[121] Мы от души желали Францу Йозефу Штраусу, который так радовался атомной бомбе, чтобы он, подобно пилоту в «Докторе Стрейнджлав» Стенли Кубрика, сам, оседлав ее, взлетел в воздух.[122] Шпрингеровская пресса делала все от нее зависящее, чтобы вмонтировать западным немцам фельдфебельские мозги. На Шеллингштрассе[123] мы воспрепятствовали распространению газеты «Билд». В этом участвовали все, кого ты знаешь сегодня…
— И Алиса Шварцер?[124]
— Она тем временем освобождала женщин в Кёльне. В каждом городе шла своя маленькая война. Во Франкфурте спекулянты хотели поэтапно снести старые дома района Вестенде. Полиция не понимала, что протестующие молодые люди просто почувствовали себя гражданами. Пожилые чиновники в нашей стране в свое время еще пели, будучи гитлерюгендовцами: Сегодня нас слышит Германия, а завтра услышит весь мир. И мы вдруг поняли, что не хотим повиноваться людям с сомнительным прошлым. Ведь многие наши тогдашние профессора прежде без всяких угрызений совести преподавали расоведение, комментировали нюрнбергские законы, исключали из немецкой литературы Рильке и Брехта. Когда в Геркулесовом зале[125] исполняют музыку Шёнберга, ты и сейчас иногда слышишь голоса из публики: «Дегенеративное искусство!»; «Запретить бы исполнение подобных вещей!»; «Нам не хватает сильной руки!». Весь этот бред нужно было вымести из голов… Конечно, Мартин Лютер Кинг был для нас важной фигурой, с его речью о братском мире I have a dream…[126] Кеннеди, молодой и полный оптимизма, — тоже. Когда пришло сообщение о его убийстве, люди на Одеонсплац[127] с плачем обнимали друг друга. И тем не менее мы создавали новое, были открыты для нового. Надо отважиться на большую демократию.[128] С Вилли Брандтом все сразу почувствовали себя раскованнее.
Я охотно слушал его восторженные рассказы о переломе. Поколение Фолькера завоевало те свободы и послабления, которыми пользовался я, тогдашний подросток. Даже мы, старшеклассники гимназии в Люнебургской пустоши, заразившись духом времени, избрали школьный парламент, добились, чтобы администрация выделила уголок для курильщиков и бунтовали против старого учителя географии, в прошлом эсесовца, который ставил свою губительную «семерку», если какой-то ученик относил Судетскую область к Чехословакии, а Эльзас — к Франции. Правда, во время школьных походов д-р Толле всегда держался по-товарищески, он был превосходный шарфюрер: «Ханс, возьми мое яблоко».
Может быть, тоска по иному есть самая одухотворенная форма действительности, самое значимое воплощение жизни. Сейчас мне это видится так: человек живет на земле поэтически. Эту запись я нашел в дневнике двадцативосьмилетнего делегата от отделения германистики. Будучи выборным представителем студентов, Фолькер в 1967-м вращал ручку гектографа, печатая листовки, призывающие к бойкоту определенных профессоров. Он руководил дискуссиями на темы «Политизация эстетики» и «Вся власть — фантазии, или Как нам изобрести самих себя». В одном месте на Файличплац, которое он мне несколько раз с гордостью показывал, Фолькер однажды попал под водометы полиции. Во время беспорядков на Леопольдштрассе он наблюдал, как не участвовавших в демонстрации любопытных, которые внезапно обратились в бегство, полицейские выводили, в наручниках, из кафе и магазинов и заталкивали в «зеленые Минны».[129]
В дневнике Фолькера нет сведений о том, что он произносил публичные речи. Он никогда не верил безоговорочно ни в какую идеологию. Поля принадлежавших ему «Цитатника Мао» и Корана усеяны вопросительными знаками. Даже на пике беспорядков он не отказывался от интересов иного рода. Был, по студенческому билету, на концерте Антона фон Веберна. К сожалению, преобладают впечатления в духе Вильгельма Буша.[130] Певица Аннелиз Кюпперс кружевным подолом подметала пол, энергичная походка делала ее похожей на экзотическую глупую птицу; платье слишком туго обтягивало пышные формы, и фрау Кюпперс еще больше это подчеркивала, время от времени оглаживая его на бедрах. Кроме того, она закончила песенный цикл громким «Пуу», что, видимо, было требованием сочувствия. Пианистка — поменьше габаритами, в синем, как вечернее небо, платье, — пока играла, казалась воплощением болезненной суровости. Ее лицо стало пепельно-серым, исказилось от напряжения и бросило свою обладательницу на произвол судьбы: в кульминационных местах музыкантша прямо-таки вибрировала, и зрители невольно отводили глаза. При исполнении песен каждая эмоция возникает в певице сантиметров на десять раньше, чем находит отклику слушателей. Петь, должно быть, невероятно трудно.