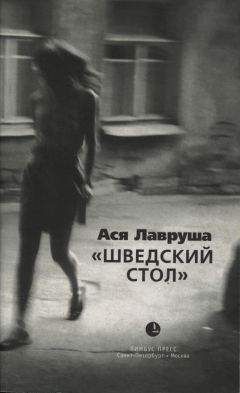Наталия Гинзбург - Семейные беседы: романы, повести, рассказы
– Не выпускай ее из дому! – кричал отец матери. – Я запрещаю!
Мать также была недовольна этими свиданиями и к юноше относилась настороженно: отец заразил ее своим необъяснимым, инстинктивным презрением к писательской братии, совершенно нам незнакомой, поскольку у нас бывали одни биологи, ученые или инженеры. Мать была очень привязана к Паоле, и до того, как у той возник роман с молодым литератором, они часто и подолгу бродили вместе по городу и разглядывали в витринах «платья из чистого шелка», которые не могли себе купить. Теперь у Паолы не было времени гулять с матерью, но, если они и выходили под ручку в город, разговор неизменно обращался у них на молодого человека Паолы, и обе возвращались домой злые друг на друга, ибо мать не оказывала юноше, почти ей незнакомому, той сердечности, которой требовала от нее Паола. Однако мать была совершенно не способна никому ничего запретить.
– Ты для них не авторитет! – орал отец, не давая ей спать по ночам.
Впрочем, как выяснилось, он тоже большим авторитетом не пользовался, потому что увлечение Паолы с годами прошло само собой, как догорает свеча, а вовсе не по воле отца и независимо от его криков и запретов.
Надо сказать, преследовал отец не только Паолу с ее субтильным кавалером, но и моего брата Альберто, который, вместо того чтобы делать уроки, гонял в футбол. Среди всех видов спорта отец признавал только горные. Остальные называл либо легкомысленными светскими развлечениями, как теннис, либо напрасной потерей времени, как плавание; море, пляжи, песок он ненавидел; что же касается футбола, то его отец к спорту даже не причислял, считая игрой уличных сорванцов. Джино учился хорошо, Марио тоже, Паола не училась, но отцу не было до этого дела – ведь она девушка, а девушке, по его мнению, учиться вовсе необязательно: все равно потом выйдет замуж; так, про меня отец даже не знал, что у меня не клеится с арифметикой, только мать переживала, ведь это ей приходилось со мной мучиться. Альберто же совсем забросил учебу, и отец, другими сыновьями к этому не приученный, разражался страшным гневом, когда Альберто приносил домой плохие отметки или его временно исключали из школы за недисциплинированность. Отец переживал за будущее всех своих сыновей и, просыпаясь по ночам, говорил матери:
– Что будет с Джино? Что будет с Марио? – Но за Альберто, который был еще гимназистом, он не просто переживал, а находился в состоянии настоящей паники. – Каков негодяй! Каков мерзавец!
Он даже не называл Альберто «ослом», потому что это в применении к Альберто казалось ему недостаточным: вина Альберто была неслыханной, чудовищной. Альберто либо гонял мяч на футбольном поле, откуда возвращался весь грязный и нередко с разбитыми в кровь коленками и забинтованной головой, либо шлялся где-то с друзьями и всегда опаздывал к обеду. Сидя за столом, отец нервничал, двигал стаканы, крошил хлеб, и неизвестно было, на кого он в данный момент сердится – то ли на Муссолини, то ли на Альберто, до сих пор не вернувшегося домой.
– Негодяй! Мерзавец! – восклицал он, когда Наталина вносила суп.
Обед продолжался, и гнев отца все возрастал. К десерту появлялся наконец шалопай – свежий, розовый, сияющий. Вот кто никогда не дулся и был неизменно весел.
– Негодяй! – гремел отец. – Где ты пропадал?
– В школе, – отвечал Альберто своим звонким мальчишеским голосом. – А потом пошел проводить друга.
– Друга! Негодяй – вот ты кто! Уже удар пробил!
«Ударом» отец называл час дня и то, что Альберто вернулся после «удара», воспринимал как неслыханный проступок.
Мать тоже жаловалась на Альберто:
– Вечно он грязный! Мотается повсюду, как оборванец! Только и делает, что выпрашивает у меня деньги! А учиться не желает.
– Я сбегаю на минутку к Пайетте. Сбегаю на минутку к Пестелли! Мам, дай две лиры, а? – Это была обычная песенка Альберто, других от него не слыхивали. И не потому, что он был необщителен, напротив, его общительности, подвижности и веселости мы могли бы позавидовать, просто он очень редко бывал дома.
– Вечно он с этим Пайеттой! Все Пайетта да Пайетта! – Имя «Пайетта» мать произносила с каким-то особым раздражением, словно взваливая на него вину за частые отлучки Альберто.
Две лиры были даже тогда небольшой суммой, но Альберто просил по две лиры несколько раз в день. Вздыхая и гремя ключами, мать отпирала ящик своего бюро. Альберто вечно нужны были деньги. Он повадился сплавлять букинисту книги из нашей библиотеки, так что стеллажи постепенно пустели, и отец время от времени безуспешно искал нужную ему книгу. Во избежание скандала мать говорила, что дала ее почитать Фрэнсис, хотя прекрасно знала, куда деваются книги. Иногда Альберто относил в ломбард фамильное серебро, и мать, обнаружив пропажу какого-нибудь кофейника, плакалась Паоле:
– Ты себе не представляешь, что он опять натворил! Ну что он со мной делает! И отцу не пожалуешься: он ведь его убьет!
Она так боялась отцовского гнева, что разыскивала квитанции из ломбарда в ящиках Альберто и тайком посылала Рину выкупать свое серебро.
Альберто не дружил больше с Фринко, канувшим в неизвестность вместе со своими романами ужасов; раздружился он и с сыновьями Фрэнсис. У Альберто были теперь Пайетта и Пестелли, его школьные товарищи, которые учились, однако, весьма прилежно; мать то и дело повторяла, что Альберто бы надо брать пример со своих друзей.
– Пестелли, – внушала она отцу, – очень хороший мальчик. Из уважаемой семьи. Его отец – тот самый Пестелли, который пишет в «Стампе». А мать знаешь кто? Карола Проспери, – говорила она с гордостью, пытаясь как-то возвысить Альберто в глазах отца.
Карола Проспери была писательницей, и ее книги нравились матери. Она явно выделяла Каролу из низменной среды литераторов, потому что та писала книги для детей, а ее взрослые романы были, по словам матери, «хорошей литературой». Отец, не прочитавший ни одной книги Каролы Проспери, лишь пожимал плечами.
Что касается Пайетты, то его в первый раз арестовали еще гимназистом за то, что он между партами разбрасывал антифашистские брошюры. Альберто, как одного из его ближайших друзей, вызывали на допрос в полицейский участок. Пайетту отправили в исправительный дом для малолетних, и мать говорила отцу все с той же гордостью:
– Ну, Беппино, что я тебе говорила? Альберто умеет выбирать друзей. Все они серьезные и хорошие ребята.
Отец пожимал плечами. Он тоже в душе был горд тем, что Альберто допрашивали в участке, и даже несколько дней не называл его негодяем.
– Оборванец! – говорила мать, когда Альберто возвращался с футбола взмокший, в разорванной одежде, с волосами, слипшимися от грязи. – Оборванец!
– Он курит и сбрасывает пепел на пол! – жаловалась она подругам. – Валяется на постели в ботинках и пачкает одеяло! Вечно клянчит у меня деньги. А ведь какой был мальчик! Добрый, послушный, ну просто золото! Я его маленького водила в кружавчиках, и у него были такие чудные локоны! И вот во что превратился!
Друзья Альберто и Марио редко появлялись в нашем доме; Джино, напротив, всегда приводил по вечерам своих друзей.
Отец приглашал их с нами отужинать. Он всегда был рад угостить людей, хоть иногда еды на всех не хватало. А нам он запрещал «напрашиваться на обед» к чужим.
– Опять ты «напросился на обед» к Фрэнсис! Какая наглость!
Если кого-нибудь из нас приглашали на обед, а мы затем плохо отзывались об этих людях, отец возмущался:
– Зануды, говоришь? Однако пообедать у них ты не побрезговал!
На ужин Наталина обычно подавала нам похлебку Либига – слишком жидкую, но мать ее обожала – и яичницу. Таким образом, друзья Джино разделяли с нами эту однообразную трапезу, а после слушали за столом рассказы и песни моей матери. Среди этих друзей был один, по имени Адриано Оливетти: помню, он впервые пришел к нам в солдатской форме, поскольку отбывал в то время воинскую повинность; Джино тогда тоже служил в армии, и они с Адриано были в одной казарме. У Адриано была курчавая, вечно нечесаная рыжая борода и длинные светло-рыжие волосы, закручивавшиеся на затылке колечками. Сам он был какой-то одутловато-бледный. Военная куртка неуклюже топорщилась на грузном теле; трудно было себе представить более неподходящую фигуру для серо-зеленого мундира и пистолета на поясе. Вид у него был всегда печальный, может быть потому, что военная служба была ему вовсе не по душе; робкий, молчаливый, он когда открывал рот, то уж говорил долго и тихо о чем-то странном, непонятном и при этом глядел в пустоту своими маленькими голубыми глазками, одновременно холодными и мечтательными. Казалось, Адриано – воплощение человека, которого отец определял словом «зануда», однако отец никогда не называл его «занудой», «тюфяком» или «дикарем», никогда не говорил ничего подобного в его адрес. Я спрашиваю себя почему и прихожу к выводу, что отец гораздо лучше разбирался в людях, чем мы предполагали: видимо, он сумел разглядеть под этим обличьем человека, каким Адриано суждено было стать в будущем. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь – отец не называл его «занудой» лишь потому, что знал от Джино о его пристрастии к горам и об антифашистских взглядах: Адриано был сыном социалиста, друга Турати.