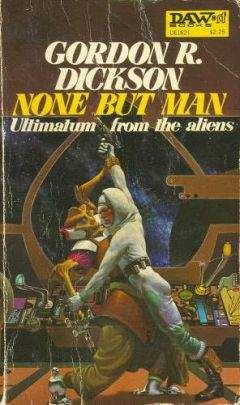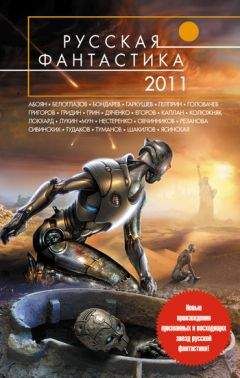Лев Александров - Две жизни
— Ладно, выпьем. За Андрея Дмитриевича Сахарова. Говорить ты, конечно, здорово научился. Но врешь, все равно врешь. Что ж, по- твоему все беспросветно, никаких надежд, так до скончания века по Орвелу и Хаксли жить будем? А Германия? Куда уж тоталитарнее быть, а смотри — десяток лет, и ФРГ вполне нормальное государство.
— Нашел с кем сравнивать! Гитлер был двенадцать лет, он только начал людей переделывать (ведь переделать надо не сотню тысяч эсэсовцев, а многие миллионы основного населения), как войну проиграл. А наши — уже седьмой десяток. Немцам повезло. Наверное, в последний раз в истории человечества фашистскую систему в мировой державе смогли уничтожить благодаря войне. Теперь с атомными и водородными не очень повоюешь! Уничтожить, конечно, можно, но не с кем и некому будет нормальное общество устраивать. А что касается беспросветности — нет, не беспросветно. Только изменения могут быть медленные и только сверху. Да они уже идут постепенно. С флюктуациями, то вперед, то назад, но, в среднем, система с годами становится мягче, податливее. Стареет. И очень постепенно на нижние (пока) ступеньки номенклатуры пробираются более разумные, профессионально образованные люди, думающие не только об удобном кресле для своей задницы. Отпускать за границу, на время или совсем, стали. Мало, с преодолением страшных бюрократических барьеров, но стали. И сажать невинных людей перестали.
— Как это перестали? Сколько невинных людей в лагерях и психушках! Ты что, совсем на своих зияющих высотах на грешную землю не смотришь?
— Боречка, какие же они невинные? Это при Иоське невинных сажали. И то не бессмысленно. Новый строй создавали. Человек, каждый человек, должен был рабом стать. Не внешне только, а внутренне. Каждый человек должен был узнать, что он — никто, а Государство — все, что он маленький винтик, что все решают наверху, что с ним все можно сделать. Хаотические (на вашем ученом языке — стохастические) репрессии — лучший и самый быстрый способ создания такого общества. А теперь невинных не сажают. В рабовладельческом обществе преступник каждый, кто демонстративно ведет себя, как свободный человек. Они говорят вслух, (а не как мы с тобой, вдвоем, за закрытыми дверьми) и пишут то, что думают. Они дают интервью, не спрашивая разрешения. Если Сахаров, Буковский, Щеранский не преступники, то жизнь миллионов людей теряет смысл. Конечно, теперь сажают только виновных. Скажи спасибо, что сажают так мало и наказывают так мягко. Что значат тысячи в эпоху развитого социализма по сравнению с миллионами в эпоху недоразвитого? Это я тебе объяснил, почему они преступники с точки зрения системы. Но то, что они делают, вредно и с твоей точки зрения. Они мешают тому медленному постепенному движению в сторону более разумного, более мягкого, если хочешь, более свободного и нормального общества, которое началось в марте пятьдесят третьего, когда пауки на самом верху увидели, что, если продолжать по-старому, то они сожрут друга друга без остатка. Это движение может быть эффективным только за счет давления сверху, пусть не с самого верха, но обязательно сверху. А они мешают. Так же, как мешали народовольцы после отмены крепостного права.
Как говорит! Нет, недаром такую карьеру сделал. Неужели все эти хитроумные рассуждения ему только для самооправдания нужны?
— Слушай, Сережка, скажи мне, только честно скажи, не "с точки зрения системы", не "с моей точки зрения", а честно. Ты действительно веришь в то, что говоришь? Веришь в то, что честные, смелые и свободные люди приносят вред, а умные карьеристы, устроившиеся на не низких ступеньках иерархической лестницы, помогают постепенному исправлению нашей уродливой системы? Веришь в то, что деятельность Сахарова и ему подобных (хотя, видит бог, мало ему подобных) только мешает? Ведь хорошо уже то, что они стольким людям глаза открывают. Разве "Архипелаг Гулаг" не замедлил (хотя бы только замедлил) рост «соцлагеря» в мире?
— На последний вопрос отвечу: глаза открывают только тем, у кого они уже открыты; рост соцлагеря "Архипелаг Гулаг" не замедлил, его водородные бомбы и крылатые ракеты замедлили. А что касается того, во что Сергей Лютиков верит, то разреши сначала еще выпить. Ты ведь хочешь, чтобы честно, а разве трезвым можно честно? Я выпью и помолчу немного, пока не подействует. А тебе пить не надо. Ты мне лучше стихи почитай. Что-нибудь из военных. Теперь ведь тебе читать эти стихи некому, а читать, небось, хочется?
Сергей налил почти полный стакан коньяка, не спеша выпил. Встал, походил немного, сел в кресло, ноги вытянул.
— Почитай, Борька, я потом тебе честно скажу.
— Ты прости, Сережа, не хочется мне читать. Я теперь только себе самому и не вслух иногда читаю. Помолчим лучше.
Помолчали.
— Жаль, что не хочешь. Ты ведь знаешь, Борька, я в стихах мало что понимаю. Читаю иногда модные, чтобы в курсе быть. Мне с Валей разные дома посещать приходится. И дамы везде разные, и литература у всех разная. В дипломатических и внешнеторговских домах надо тамиздатовских знать, или хоть не знать, а иметь представление, — Бродского, Горбаневскую. В цековских — Рождественского, Солоухина. Академические дамы сейчас Вознесенским и Ахмадулиной увлекаются. Раньше — Евтушенко, но он, говорят, совсем плохо писать стал. Я слыхал, что в диссидентских домах другие в моде, — Тарковский, например, но я там не бываю. И те стихи мне в одно ухо входят, из другого выходят. Может, просто стар и туп. А твои действуют. Это что, потому что твои, или потому, что ты действительно настоящий поэт? Ты настоящий поэт, Великан?
— Нет, не настоящий. Настоящие — это Пушкин, Тютчев, Блок. Пастернак. И Твардовский и еще несколько, которых ты не знаешь. А я не настоящий поэт и ученый не настоящий. А тебе нравятся, потому что, во- первых, они мои, во-вторых, я искренен, и ты это знаешь, и в-третьих, я хорошо их читаю. А на самом деле стихи неважные: форма архаична, рифмы стандартные, все, что говорю, можно было бы сказать и прозой.
— Скажи, пожалуйста, какой скромный! Я, мол, не настоящий по сравнению с Пушкиным.
— А с кем сравнивать, с Демьяном Бедным? Ладно, хватит об этом. Ты мне не ответил.
— Это насчет веры? Ни во что я не верю, Борька. Я, понимаешь, атеист. Настоящих атеистов в мире мало. А у нас почти и нет совсем. Все себе какой-нибудь суррогат выдумывают, сознательно или бессознательно. Сверху подсовываемый суррогат мало от чего спасает, но многие цепляются. Или просто не думают. Каждый, конечно, хоть раз подумал, но стало так страшно, что запрятал в подкорку. Лучше Федора Михайловича не скажешь: "Если Бога нет, то какой же я капитан?" Помнишь? Или там «штабс-капитан»? Это значит, если Бога нет, то все бессмысленно. Нет ни правды, ни лжи, ни хорошего, ни плохого. Смысла нет ни в жизни, ни в смерти. Я сказал, я ни во что не верю. Соврал. Я в себя верю. А я — это и мысли мои, то, что мне интересно, меня занимает, мне приятно. Пока живу, хочу, чтобы мне было хорошо, то есть, чтобы не было плохо. Ведь хорошо — это и значит не плохо. А то, что я стараюсь другим плохо не делать, так это тоже для себя, чтобы не мучиться. Совесть есть. Так устроен. Физиология. Тебе лучше знать. А насчет Сахарова, — верю, что он мне и себе, то есть тому делу, ради которого старается, вред приносит. А карьеристы, как ты говоришь, вроде меня — пользу. Хотя опять-таки смысла нет ни в чем. Вот тебе и все кредо Сергея Лютикова, академика, депутата и т. д. и т. п. Я, Борис Александрович, сейчас позвоню от тебя. За мной Володя приедет, я предупредил. А то уже первый час.
— А что, академическая автобаза пьяных академиков по ночам домой возить тоже обязана?
— Володя из дома приедет на своей. Ты за него не волнуйся, в убытке не будет. Давай лучше коньяк допьем. То есть я допью, а ты так, на донышке.
Уехал. Выговорился. Так всегда. И каждый раз оправдывается.
О разговоре сегодняшнем думать не хотелось. Что об этом думать? Все давно передумано. Борис Александрович не спеша убрал в комнате и на кухне, вымыл посуду. Он последнее время заметил: становится педантом. Все должно лежать на своем месте.
Завтра лекции нет, в институт можно не ходить. В сережином свертке пять упаковок нитросорбида американского, французский аспирин (от нашего изжога), журналы, Форсайт, Солженицын. Перелистал Тайм. Читать не хотелось. Лег, не раздеваясь. Сегодня хорошо, устал, выпил, даже курил, а не схватило. Завтра, наверное, скажется.
Долго лежал, вспоминал, стихи про себя читал.
2.Июнь сорокового. Осталось совсем немного до каникул. В последнем ряду Большой Зоологичекой тепло, и голос лектора, пересказывающего четвертую главу "Краткого курса", почти не мешает думать. Лекции по марксизму Борис не слушает. За сутки перед экзаменом вызубрит эту несложную формалистику с тем, чтобы на другой день начисто освободить от нее голову. Собственно говоря, надо бы послушать и кое-что записать. Этот пустозвон любит, чтобы отвечали его словами по конспектам. В крайнем случае можно будет взять конспект у Иры. Борису надо получить пятерку. Он твердо решил: весеннюю сессию всю сдаст на пятерки. Тогда они не смогут не дать ему сталинскую стипендию. А это значит — меньше унизительных пятирублевых уроков, больше времени на настоящую работу и на Иру.