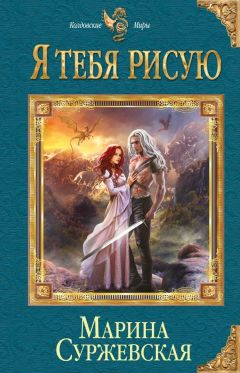Жак Шессе - Желтые глаза
Мадемуазель Зосс поняла эту сторону моей натуры. И не пыталась ее изменить, но, напротив, играла в желание сделать все возможное ради удовольствия, чтобы серые глаза ее «сына» – как она любила меня называть, – светились абсолютной радостью в свете лампы под абажуром. (Это относится и к первым месяцам нашей любви с Анной. А рассказы о моей связи с опытным социальным работником, словно наркотик, одновременно раздражали и вдохновляли мою супругу.)
II
– Почему ты бродишь? – спрашивала меня мадемуазель Зосс.
Я объяснял.
– Расскажи мне о какой-нибудь из своих встреч. Я рассказывал.
– Это не самая удивительная. Расскажи еще. Я повиновался. На самом деле мадемуазель Зосс интересовало не то, что могло показаться изумительно карикатурным, типичным, упрощенным, но в моих рассказах всегда присутствовал один и тот же мотив: все возможно, открыто, реальность постоянно меняется, множество форм дано тому, кто ищет случая выделиться, подставиться, предложить себя. Разумеется, приключение принимало постельный оборот, секс происходил в наиболее неожиданных местах, самый разнообразный, скрытый от чужих глаз. Желание никогда не успокаивается, оно постоянно распаляет жажду, любопытство, изобретательность: то бешенство, которое является метаморфозой несчастья быть человеком. Любой секс оказывается неожиданным. Навязчивое сексуальное желание гипнотизирует и постоянно растет. Меньше не становится. В сексе всегда присутствует приключение, как справедливо замечает народ. Оно притягивает, помогает воображению, и пока это приключение живет, смерть не имеет власти над своей жертвой.
Днем работа заставляла мадемуазель Зосс разъезжать по больницам, тюрьмам, ездить к духовному наставнику в Б. Я уже сказал, что она была в том же возрасте, что и моя мать: ей было пятьдесят пять лет, мне – тридцать пять. Она была еще моложавой, стройной, удивительно подтянутой. Высокая, быстрая, прекрасно выглядела… Мы встречались каждый вечер после ужина, а потом ложились в постель. Странно, что я не уставал; Пола Зосс обладала искусством постоянно возвращать мне ощущение комфорта. Она ласкала меня, массировала часами. Во время этих массажей мы разговаривали.
– Расскажи мне о своих встречах.
– …Расскажи мне о моих седых волосах.
И она в самом деле показывала мне свои седые волосы на лбу и на висках – она не состригала их лишь из соображений глупого кокетства. Эти седые волосы мне нравились, притягивали меня, они оттеняли ее загар, ее ясные глаза и подчеркивали моложавость ее лица. Я любил их, эти серебристые проблески на буром фоне. Я говорил ей об этом. Она верила мне. Ее вера, которую она испытывала по отношению ко мне в течение года, спасет ее.
– Расскажи мне о своих книгах. О том, как ты пишешь. О том, как это происходит.
– …Расскажи мне о своем детстве. О проповеднике.
– …Расскажи мне о вере и Библии.
– …Прочитай мне по памяти стихи из Псалтири.
Это было легко. Я столько раз слышал их, так часто сидел у подножия кафедры, что знал их наизусть. В моей повседневной жизни было очень мало случаев, когда библейские цитаты не пришлись бы по назначению, я использовал неистощимые резервы своей памяти и в нужные моменты часто извращал слова, произнося их с иронией или напыщенностью.
– Поговори со мной о Боге.
Смеясь, я пародировал своего отца.
– Нет, не так. Серьезно. Расскажи мне о Боге. Признайся, что послужило причиной твоего прихода к вере.
Я увиливал от ответа, рассказывал о своем детстве, о жизни в горах, особенно о том, что – поскольку эта жизнь отделяла меня от моих сверстников – я не ходил в школу и что ни в одной деревне я не чувствовал себя дома; именно этот факт внушает мне своего рода болезненную привязанность к зверинцам, маленьким циркам. Я похож на путешественника. Блуждания, расстояния, отделяющие вас от людей, приклеившихся к одному месту, на которых вы смотрите, как на довольных своей судьбой чудаков, тогда как вы сами – вечные бродяги с дырявыми карманами.
Я попытался описать ей это одиночество.
– Расскажи мне о своей матери.
О ней я мог говорить охотнее всего. Годы, на протяжении которых я не хотел обращаться к ней, а позже поместил ее смерть в скобки. Исключительное любопытство Полы заставляло меня вытащить образ матери из уголков памяти, куда я его сослал. Месть, страх, давняя детская система защиты? Каждый раз, когда появлялась мать, я убегал от нее. Она так привыкла царствовать! Я рассказывал. Длинный монолог, в котором я попытался изобразить ее энергичность, ее заботы о спасении пьяниц и проституток – так же, как я, привлеченный в цирк видом грешников, – она думала: «вот заблудшие». Заблудшие, заблудившиеся, изможденные бедностью и алкоголем лица – зрелище, требующее исправления, зрелище, которое связано у меня с другим: затемненным и ненавистным, когда все чувства – лень, жадность, мерзость, злоба – могут наконец дать выход своим возможностям.
Моя мать трудилась неустанно: исправляла, заботилась, помогала. Но как только она уходила, как только «священный экипаж» моего отца исчезал в глубине пейзажа, пьяница возвращался в кафе, проститутка – на панель, разведенная женщина вновь начинала развратничать. О том, что они ели, о том, что они пили и что делали, заботились люди, которые совершали все возможное ради славы Божьей. Но отпаивать чаем и насыщать хлебцами виновных? Они тут же возвращались в геенну огненную. Ничего не происходило. Быть может, именно в бесполезной работе, которую проделывала моя мать, я вижу сегодня ее подвиг. Неустанно противостоять злу. Зло царит, дьявол никогда не покладает рук. Зло желает царствовать. Однако в постоянной битве с ним и заключается призвание праведников. Дьявол! Для моего отца и моей матери дьявол существовал на самом деле, они видели его, знали о его хитростях, всех его мерзостях, они загоняли его в ловушку, сражались с ним. Любой жест, поступок были направлены на то, чтобы посрамить дьявола, дать понять, что Царство Божье наступит на земле только в борьбе с тысячелетней эпохой зла. Однако оно наступит, это Царство, и венец праведников навеки воссияет на челе добрых воинов!
Зло – колючий кустарник, заполняющий собой землю, чтобы добро не восторжествовало. Бдительность! Бдительность! Бодрствуй в мыслях своих. Омой тело свое. Очисти душу свою. Не оставляй ни малейшего места, ни малейшего шанса демону, пока живешь, преследуй его, борись с ним, осаждай его, заставляй бежать. Нельзя терять ни минуты. Ты видишь, Злодей перерождается! Сладок запретный плод, изысканны платья и вина, крики чарующих животных, тела девушек. Само обольщение принадлежит ему. Желание – его творчество. Все, что нравится, что привлекает, все, что услаждает инстинкт и взгляд – его творчество. Празднуйте, веселитесь. Вы порочны и лживы. Только один праздник узнаваем в Вечном блаженстве. О матушка! Исчезнувшая и появившаяся вновь! Элегия. Ожерелье упреков и никогда не полученных поцелуев. Никогда не возвращенных.
Я пытался объяснить мадемуазель Зосс следующее: я, который был безразличен к детям и детству, думал о своей матери, беременной мной, о себе внутри нее – я пытался представить ее ощущения, проследить то, что связывало ее с Богом в течение девяти месяцев. Как часто она должна была повторять хвалы псалмопевца, тоже словно находившегося внутри матери:
Но Ты извел меня из чрева,
Вложил в меня упование у грудей матери моей.
На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей
Ты – Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо
Скорбь близка, а помощника нет… [8]
Произнося эти слова, я мысленно обращался к Луи, его бездомной матери, месяцам, которые она тайком носила его, к его загадочному отцу, к рождению ребенка в нищете… Я думал об этом с горечью. С сожалением, что почти ничего не знаю о стадиях вынашивания плода, о той связи, которая должна была соединять меня самого с матерью, супругой проповедника, – думал с неизменной нежностью.
Истинное затмение! Неблагодарность существ! Я рассказывал все это мадемуазель Зосс, и она часами слушала меня, разделяя со мной мое любопытство, исцеляя мои давние раны. Я рассказывал ей о наших путешествиях в горах – во времена моего детства Ормонские горы еще были дикими; старая машина, ущелья, остановки у подножия скал, чай (опять), кусочек хлеба (в тамошних хижинах не едят ничего, кроме сухого хлеба…), я собирал горсть черники на сладкое, и после молитвы снова дорога среди скал до следующей остановки. Осанна! Ангельские трубы! Альпийские бури, солнечные ванны каждый день, вечера, когда моя мать учила со мной главы из Библии. Книга Иова – Псалтирь – Притчи Соломона – Книга Екклесиаста; арифметика вбивалась в мою голову посредством подсчета актов и законов избранного народа. Осанна! Как не удивляться тому, что годы спустя полностью вышедший из книги Бытия ученик позволял седеющей любовнице ласкать себя, зачарованно погружаясь в бездны своей пророческой предыстории.