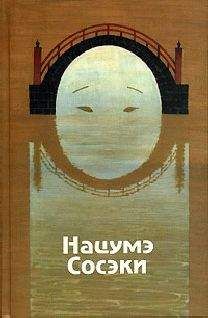Жан Жубер - Красные сабо
Друзья семьи, с которыми я едва был знаком, суетились в кухне. Она спросила:
— Хочешь на него взглянуть? Он там, в спальне. Его уже положили в гроб.
Простой белый гроб, без всякой драпировки и украшений, стоял на козлах возле кровати. Я поднял крышку. И долго смотрел на это бесстрастное, спокойное лицо, восковое, как у всех покойников, на знакомую складку губ, мне часто говорили, что рот у меня точь-в-точь как у дяди.
Я уверен, что дядя Жорж никогда не задумывался о смерти, разве что в сорок лет, когда переживал некий кризис, о чем он потом сам поведал нам в своих мемуарах. Да и то не известно, боялся ли он в ту пору смерти, ибо его тогдашние тревоги и переживания принимали весьма земной оборот. Однако с самой его юности вокруг него смертей хватало: сначала умер его старший брат Андре, потом мать, за ней отец, затем двое детей Жанны, потом его жена, его друзья. Да и на мировой арене — а в нем жило страстное чувство солидарности с другими людьми — возник трагический братоубийственный кортеж жертв: солдаты 1914–1918 годов, убитые или расстрелянные, мученики гражданской войны в Испании, политических процессов, гитлеровских концлагерей, колониальных и освободительных войн. Повсюду вокруг него витала смерть, но это была не его смерть. Не то чтобы он считал себя бессмертным — хотя я подозреваю, что изредка он себя ощущал таковым, — просто мне кажется, проблема эта его не занимала. Во время наших долгих бесед, он, даже в глубокой старости, ни разу ее не коснулся. Его мысли все без остатка были обращены к жизни, к другим людям. По своей удивительной скромности он полагал, что его собственная смерть — событие слишком уж незначительное. Лучше всего его характеризует такая черта: в день своего девяностолетия он шутливо сказал дочери:
— Ничего себе! Через десять лет мне исполнится целый век!
Человек должен быть слишком уж самовлюбленным, чтобы испытывать постоянную одержимость смертью, которая всегда так или иначе означает одержимость своей собственной смертью. Я утверждаю это со знанием дела, ибо сам, начиная с отроческих лет, тысячи раз мысленно проигрывал свою кончину. Не было дня, когда бы меня не преследовала ее мрачная тень: то мимолетно задевая сознание, то разворачиваясь в генеральную репетицию моей агонии. Особенно преследовало это меня в те смутные предзакатные часы, когда дневной свет меркнет и растворяется в сумерках, или еще в беспокойные часы ночной бессонницы, рождающей дикие образы. По правде говоря, любая, даже внешне идиллическая обстановка и окружение — солнечный пляж, мирная деревушка, красивый город — тоже вдруг могли дать трещину, в которую просачивался ядовитый черный туман смерти. А вот другая, ставшая мне привычной, метафора: невидимый убийца, следующий за мной по пятам и время от времени обнажающий свой нож. Мне тоже пришлось преодолеть опасную границу моего сорокалетия, чтобы избавиться от всех этих наваждений и перестать рассматривать свою смерть и смерть вообще как конец света. Последовав совету Монтеня, я путем долгого общения со смертью, как мне кажется, почти приручил ее. Меня больше не томит хватающая за сердце тоска, и я умею взглянуть смерти в лицо: вот и сейчас гляжу на дядю, твердой рукой подняв крышку деревянного гроба, где он покоится.
Что меня всегда удивляло в нем, это его врожденная, изначальная мудрость, которую другие мучительно стараются обрести в течение всей жизни, вот так же некоторые художники-самоучки бессознательно находят гармонию форм, линий, красок, в то время как профессионалы приходят к этому путем долгих лет ученичества. Его наивность позволяла ему достичь такого безмятежного «растворения во всем», какое приписывают мудрецам японской секты буддистов Зен.
Погребальная церемония была весьма краткой, если ее вообще можно назвать церемонией: деревянный некрашеный гроб, похоронные дроги, на каких возят бедняков, могила на общем кладбище, иссеченном злобным ноябрьским ветром. Провожала его лишь горстка близких родственников и друзей, поскольку извещений о смерти не рассылалось. Он покидал землю один, или почти один, и у меня сжалось сердце при мысли о том, скольких людей на протяжении своего долгого века он приветил, поддержал, ободрил. Спустя каких-нибудь десять минут он уже лежал в земле. Едва мы отвернулись, как о гроб застучали комья земли, торопливо сбрасываемые лопатами продрогших могильщиков. Он уходил, как жил, — совсем просто.
Я сильно сомневаюсь, чтобы он письменно выражал свою «последнюю волю», но вспоминаю, что лет за двадцать до этого, когда умерла моя тетка, его жена, и мы с ним пришли в похоронное бюро, он изложил свое мнение вполне определенно. Высказав дежурные соболезнования, служащий бюро — чисто выбритый, при черном галстуке — предложил дяде «устроить похоронную церемонию, дабы достойно проводить усопшую…».
Дядя оборвал его на полуслове:
— Моя жена всегда говорила, что в расчет надо принимать живых, а мертвые не стоят ничего. К тому же она терпеть не могла никаких церемоний. Я с ней согласен, так что устройте все как можно проще.
Служащий вежливо, но разочарованно склонил голову:
— Да, конечно, простота — это понятно, но ведь вы известный коммерсант, вы занимаете определенное положение…
— Все самое простое!
— Может быть, дубовый гроб…
— Дубовый? — сказал дядя. — А попроще ничего не найдется?
Он не собирался уступать ни на йоту.
— У нас есть сосновые гробы, но…
— Вот это подойдет.
— Но хотя бы ручки, какие-то украшения…
— Не надо.
Служащий записал, сурово и неодобрительно поджав губы.
— По какому классу желаете хоронить?
— По третьему, — приказал дядя, который всегда ездил по железной дороге именно этим классом и даже не подозревал, что траурная церемония имеет гораздо больше разновидностей, а погребальный транспорт делится на семь классов. На минуту это недоразумение вернуло было мастеру похоронных дел некоторые иллюзии, но они быстро рассеялись. Дядя уступил только в вопросе о ручках гроба.
— Чтобы было легче носильщикам, — пояснил он. — А в остальном — седьмой класс.
Служащий проводил нас до двери и сухо попрощался.
Так и прошло погребение, и больше на эту тему разговоров не заводили. Дядя высказался раз и навсегда, и возвращаться к этому было излишне. Когда он умер, его похоронили точно так же.
Мы — выходцы из деревни. Я часто повторяю про себя названия деревень: Сен-Жан-де-Брей, Шюэль, Шантекок, Мельруа, Сен-Жермен-де-Пре. Я раньше приезжал туда с отцом и матерью или с дядей. И хорошо помню эти деревушки; все они казались мне на одно лицо: церковь с колокольней под черепичной кровлей, приземистые домишки, грязные улочки с хлевами, сараями, амбарами, со стогами сена и кучами навоза, в которых яростно рылись куры. За плохонькими вывесками скрывались всякие лавчонки и прочие заведения: бакалея, булочная, кузница, кафе со своим очагом и длинными столами. И все это довольно бедно красками — серые стены, серые ставни, черный шифер, красновато-коричневая черепица. Лишь кое-где в окнах с наступлением лета вспыхивали красным пламенем герани в консервных банках или надтреснутых горшках — сажали их старушки, которым только это и оставалось в жизни. У остальных не было на цветы ни времени, ни охоты.
Мне говорили:
— Посмотри-ка! Это школа Жермены, это наш дом, а там была мастерская отца.
Или же:
— Когда я была маленькая, мы ходили по воскресеньям гулять вон туда, в ельник. Собирали землянику, ежевику…
Я отвечал: «Да-да, вижу», но в то время это меня совсем не интересовало, печальный вид этих деревень нагонял на меня чудовищную тоску. Летом еще куда ни шло, было свое очарование в золотистых нивах, в зеленых пастбищах с рыже-белыми коровами, в живых изгородях, в рощицах, где ворковали горлицы. Но зимой! Серые тучи, вязкий туман, безжалостные дожди, заливающие опустевшие поля! Жалкие домишки, сотрясаемые порывами ветра. Тьма уже в пять часов дня и тусклый свет лампы. И мертвая тишина, если не считать собачьего лая да жалобного мычания коров в хлеву.
А я был молод, я грезил о Париже, о Юге. В голове у меня роились книжные образы, мне грезились кипарисы на белых холмах и море вдали, за оливами, прекрасное темно-синее море. Я недоумевал: «Как это люди могут заживо похоронить себя в такой гнусной дыре?!» Я был убежден, что подобная жизнь хуже всякой тюрьмы, ведь из тюрьмы надеешься хоть когда-нибудь выйти. Но тут! Всю свою жизнь тонуть в грязи, копать свеклу, чистить коров! Кое-кто из молодежи бежал в город, они поступали работать на завод, но я слишком хорошо знал, что одно другого стоит. А те, кто оставался, — они отсюда уже не двинутся. Женщины, расплывшиеся и бесформенные уже к тридцати годам, грязная детвора — и ничего, кроме разве сидра, чтобы позабыть о горестях и нищете. За околицей, за свекловичными полями, лежало кладбище — предел их жизни. Вот какими они виделись мне, эти деревни провинции Гатинэ, когда мне было шестнадцать лет. И тщетно мать с умилением нашептывала мне о кустах боярышника и об аромате яблок — я мечтал о другом. Недавно я перечел дядины воспоминания. Я обнаружил там подмеченные им поэтические стороны деревенской жизни, он временами писал о ней взволнованно, но, с другой стороны, в его описаниях много места занимают также нужда, грязь, глупость и пьянство, злобные сплетни, скаредность. Дядя тоже не всегда испытывал нежность к деревне. И мне понятно, отчего он решил бежать оттуда — как Андре, как моя мать, — вероятно, оттого, что все они читали книги и видели больше и дальше, чем остальные. Да, скорее всего, им помогли книги. Их мать тоже знала грамоту, что по тем временам было редкостью в деревне, но она была женщиной, и это ее умение пропало втуне. А отец попытался научиться читать в пятьдесят лет, потому что у него была страсть к политике и он хотел читать газеты, чтобы во всем разбираться самостоятельно. Но для него было уже слишком поздно.