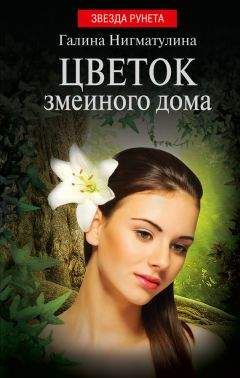Джоанн Харрис - Джентльмены и игроки
Он, усмехнувшись, кивает.
— А что у тебя сегодня?
У меня чуть не вырвалось: «Физкультура», но я вовремя спохватываюсь.
— Религия.
Леон корчит гримасу.
— Vae![21] Тогда конечно. Вообще мне больше нравятся язычники. Им хотя бы разрешали заниматься сексом.
Я хихикаю.
— А кто у вас классный руководитель? — спрашиваю я, чтобы выяснить, в каком он классе.
— Скользкий Страннинг. Англичанин. Настоящий клоун. А у тебя?
Я задумываюсь. Не хочется говорить Леону то, что легко опровергнуть. Но не успеваю я ответить, как позади нас внезапно раздается шарканье. Кто-то приближается.
Леон тут же вытягивается в струнку.
— Это Кваз. Лучше сматывайся, — советует он.
Я оборачиваюсь на шаги, разрываясь между облегчением — теперь не надо отвечать на вопрос о классном руководителе — и огорчением, ведь разговор так быстро прервался. Я стараюсь запечатлеть в памяти лицо Леона: прядь волос, небрежно падающая на лоб, светлые глаза, насмешливый изгиб рта. Смешно и думать, что когда-нибудь мы снова увидимся. Опасно даже пытаться.
Когда учитель появляется в Верхнем коридоре, я принимаю равнодушный вид.
Я знаю Роя Честли только по голосу. Мне доводилось слушать его объяснения, смеяться его шуткам, но лицо удавалось увидеть лишь мельком, на расстоянии. И вот он стоит передо мной — сгорбленный, в потрепанной мантии и кожаных шлепанцах. Я склоняю голову, когда он подходит, но, должно быть, вид у меня виноватый, потому что он останавливается и строго смотрит на меня:
— Что это вы тут делаете? Почему не на уроке?
Я бормочу что-то про мистера Слоуна и сообщение.
Мистера Честли это не убеждает.
— Его кабинет в Нижнем коридоре, а ты где?
— Сэр, мне надо было заглянуть в свой шкафчик.
— Что, во время урока?
— Сэр…
Ясное дело, он мне не верит. Сердце бешено колотится. Осмелившись поднять глаза, я вижу лицо Честли, некрасивое, умное и добродушное лицо с нахмуренными бровями. Мне страшно, но за страхом таится что-то другое — необъяснимая, захватывающая надежда. Он заметил меня? Неужели меня наконец кто-то заметил?
— Как тебя зовут, сынок?
— Пиритс, сэр.
— Пиритс, значит?
Я вижу, как он решает, что со мной делать. То ли допрашивать, как подсказывает чутье, то ли отпустить и заняться собственными учениками. Еще несколько секунд он изучает меня — глаза у него выцветшие, желто-голубые, как грязные джинсы, — и тут я чувствую, что из его пытливого взгляда уходит тяжесть. Он решил, что я не стою его внимания. Мальчишка из младших классов прогуливает уроки — ничего страшного, и его это не касается. На секунду ярость заслонила привычную осторожность. Значит, я не представляю угрозы? Не стою хлопот? Или после многолетней игры в прятки у меня получилось наконец превратиться в невидимку — полностью и бесповоротно?
— Ладно, сынок. Чтобы я тебя здесь больше не видел. Беги отсюда.
Мне остается лишь повиноваться, дрожа теперь уже от облегчения. И на бегу я отчетливо слышу за спиной шепот Леона:
— Эй, Пиритс! После школы встретимся, ладно?
Я оборачиваюсь и вижу, как он мне подмигивает.
7Школа для мальчиков «Сент-Освальд»
Среда, 7 сентября
Драма на корабле: большой и неуклюжий фрегат — «Сент-Освальд» — ударился о риф в самом начале учебного года. Во-первых, объявили дату неминуемой школьной инспекции: шестое декабря. Это всегда действует крайне разрушительно, особенно на высшие эшелоны руководства. Во-вторых — и это, с моей точки зрения, еще разрушительнее, — в то утро доставили жалкое письмо с объявлением о небывалом росте платы за следующий триместр, что растревожило мирно завтракающую публику во всем графстве.
Наш Капитан продолжает утверждать, что это в порядке вещей и соответствует размеру инфляции, однако от разговора на эту тему уклоняется. Отдельные нечестивцы бормотали, что, мол, если бы нас, сотрудников, заранее известили о предстоящем повышении платы, то лавина гневных телефонных звонков не застала бы нас врасплох тем утром.
Когда Слоуну задали прямой вопрос, он принял сторону Главного. Но он плохо умеет кривить душой. Он не решился появиться в преподавательской и до самого собрания наматывал круги на беговой дорожке, заявив, что потерял форму и ему надо тренироваться. Никто ему не поверил, но, поднимаясь в пятьдесят девятую, через окно Колокольной башни я увидел, что он — крохотная фигурка далеко внизу — все еще бегает.
Мой класс принял известие о повышении платы с обычным здоровым цинизмом.
— Сэр, это значит, что у нас в этом году будет нормальный учитель?
Аллен-Джонса, казалось, совершенно не тронули ни инцидент с номерами классов, ни мои страшные угрозы.
— Нет, это всего лишь означает, что в потайном кабинете Главного будет больше напитков в баре.
Хихиканье. Только Коньман мрачен. Он был наказан за вчерашний проступок, и второй день над ним смеялись, когда он ходил по территории в ярко-оранжевом комбинезоне, подбирая бумажки и складывая в огромный мусорный пакет. Двадцать лет назад Коньмана отлупили бы тростью, а одноклассники его бы зауважали; это показывает, что не все нововведения плохи.
— Мама говорит, что это безобразие. И вообще, есть другие школы, — заявил Сатклифф.
— Конечно, и любой зоопарк с удовольствием вас примет, — рассеянно сказал я, шаря в столе в поисках классного журнала. — Черт, где журнал? Он же был здесь.
Я всегда кладу журнал в верхний ящик. Может, с виду у меня и беспорядок, но я точно знаю, где что лежит.
— А вам когда жалованье повысят? — подал голос Джексон.
— Он уже и так миллионер, — отозвался Сатклифф.
— Потому что никогда не тратится на одежду, — снова Аллен-Джонс.
— И на мыло, — тихо добавил Коньман.
Я выпрямился и посмотрел на него. Наглость на его лице странным образом смешивалась с раболепием.
— Как вам понравилась вчерашняя уборка? — осведомился я. — Не желаете ли вызваться еще на недельку?
— Другим вы такого не говорите, — пробормотал Коньман.
— Потому что другие знают, где проходит граница между шуткой и грубостью.
— Вы придираетесь ко мне. — Голос его стал еще тише. Он избегал моего взгляда.
— Что? — искренне изумился я.
— Вы придираетесь ко мне, сэр. Придираетесь, потому что…
— Потому что — что? — рявкнул я.
— Потому что я еврей, сэр.
— Что?
Я разозлился на самого себя. Углубившись в поиски журнала, я поддался на древний трюк — позволил ученику втянуть себя в открытое противостояние.
Класс молча выжидал, наблюдая за нами.
Я взял себя в руки.
— Чушь. Я придираюсь к вам не потому, что вы еврей. А потому, что вы вечно открываете пасть и в голове у вас stercus[22] вместо мозгов.
Макнэйр, Сатклифф или Аллен-Джонс просто посмеялись бы, и все бы уладилось. Рассмеялся бы даже Тэйлер, носивший ермолку.
У Коньмана, однако, выражение лица не изменилось. Наоборот, в нем появилось нечто, чего раньше я не замечал, некое новое упрямство. Впервые он выдержал мой взгляд. Я было подумал, он хочет что-то добавить, но он опустил глаза в своей обычной манере и что-то невнятно пробормотал.
— В чем дело?
— Ни в чем, сэр.
— Вы уверены?
— Совершенно уверен, сэр.
— Ну, хорошо.
Я повернулся к столу. Журнал куда-то запропастился, но я знаю всех своих учеников и сразу вижу, кто отсутствует. И все же я огласил весь список — это учительское заклинание неизменно утихомиривает мальчишек.
Потом я взглянул на Коньмана, но тот сидел с опущенной головой, и на его угрюмом лице не было никаких признаков бунта. Я решил, что спокойствие восстановлено. Кризис миновал.
8Я долго раздумываю, прежде чем решиться на свидание с Леоном. Я хочу встретиться с ним — больше всего на свете я хочу быть его другом, хотя такой черты мне пересекать еще не доводилось, а в данном случае на карту поставлено слишком много. Но мне так нравится Леон, понравился с первого взгляда, и это лишает меня остатков благоразумия. В моей школе каждый, кто заговорил бы со мной, схлопотал бы от моих мучителей. Леон же принадлежит другому миру. Несмотря на длинные волосы и искалеченный галстук, он — здешний.
В тот день кросс закончился без меня. Назавтра я подделаю отцовскую записку, где он сообщит, что у меня на бегу случился приступ астмы и впредь он запрещает мне кросс.
Ну и слава богу. Терпеть не могу физкультуру. А особенно — мистера Груба, учителя, с его искусственным загаром и золотой цепочкой на шее, щеголяющего неандертальским юмором перед горсткой прихлебателей за счет тех, кто слаб, неловок, косноязычен, — неудачников вроде меня. И вот, все еще в форме «Сент-Освальда», я прячусь за флигелем и жду, не без опаски, звонка, возвещавшего конец занятий.