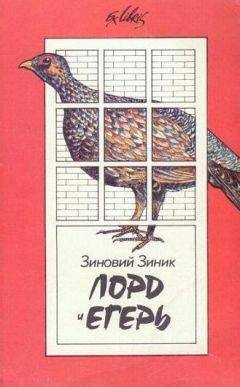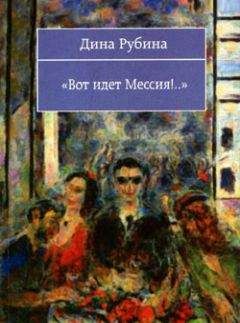Маргарет Дрэббл - Камень на шее. Мой золотой Иерусалим
Из паралича меня вывело появление еще одной пациентки, недвусмысленно беременной, которая, быстро войдя с улицы, решительно и целеустремленно зашагала по одному из темных кремовых коридоров. Сообразив, что к чему, я двинулась следом. И, как и следовало ожидать, она привела меня в предродовую клинику, представлявшую собой огромный зал со множеством выходящих в него небольших кабинетов, заставленный рядами стульев, на которых дожидались своей очереди беременные. До открытия оставалось еще пять минут, — я уже стала настолько опытной, что, предвидя неизбежную очередь, пришла пораньше, — но зал был переполнен, свободными оставались всего три или четыре стула. Я заняла один из них и приготовилась ждать, и пока ждала, имела возможность хорошенько рассмотреть своих соочередниц.
Естественно, всех нас роднила одна общая особенность, хотя животы присутствовавших варьировались от совсем незаметных до непомерно вздутых. Как и в приемной у доктора Моффата, я чуть не расплакалась от богато представленного здесь разнообразия человеческого горя. Может быть, виной тому было мое настроение, но сидевшие в зале женщины поразили меня своим подавленным, несчастным видом. Нередко слышишь, правда, от причастных к случаю мужчин, о том, как прекрасна женщина, ждущая ребенка — словно корабль под парусами и тому подобные поэтические сравнения. И действительно, иногда на лицах у сытых и холеных молодых леди из хороших семей, находившихся в интересном положении, я замечала некое умиротворенное сияние, однако факты красноречиво свидетельствуют о другом. На большинстве лиц у сидевших в очереди лежала печать анемии и усталости, бросалась в глаза безобразная одежда, распухшие ноги, отяжелевшие, неповоротливые фигуры. Было здесь и несколько тяжелых случаев: грузная тучная женщина средних лет, передвигавшаяся лишь с помощью палки, тоненькое бледное существо с варикозными венами и двухлетним ребенком на руках и негритянка с широко раскрытыми, остановившимися от ужаса глазами. На ее лице не было и следа того простонародного смирения перед законами природы, о котором мы столько слышим, она тихо причитала и постанывала, словно в родовых муках; может быть, так же, как меня, ее больше всего пугала сама больница. Даже те, кому с виду не на что было жаловаться, выглядели угрюмыми и утомленными, хотя им надлежало сиять от радости. Возможно, их угнетала необходимость ожидания в очереди и осмотра. Передо мной сидело несколько молоденьких девушек, тех, что обычно щебечут и хихикают в автобусах и в кафе. Здесь они отнюдь не хихикали, а с мельчайшими подробностями поверяли друг другу, как у них болит поясница, как их тошнит и как они боятся, что навсегда испортили себе фигуру. Наблюдать это было горько. Так мы и сидели бок о бок, и вдруг меня пронзила мысль, что хотя я не имею ничего общего ни с кем из них, хотя мне неприятно на них смотреть и я здесь чужая, словно из другого мира, тем не менее я — одна из них, так же выгляжу и впервые загнана жизнью в ловушку. И в этой ловушке мне надо научиться жить.
Через некоторое время стали появляться сестры, все зашевелились, и очередь начала двигаться. Одна за другой женщины загадочным образом куда-то исчезали — измерить давление, взвеситься, показаться кому-то из врачей или посоветоваться с акушеркой. А я сидела и гадала, подойдут ко мне за моей карточкой или нет, и когда никто так и не подошел, решила поинтересоваться, кому вручить мои бумаги. Боясь, как бы меня не обвинили в том, что я задерживаю очередь, я нерешительно встала и пошла искать, кто тут главный. Мне удалось найти сестру, которая взяла у меня конверт и велела посидеть подождать еще, что я и сделала, приготовившись сидеть до скончания века, но через несколько минут услышала, как непонятно откуда прозвучало мое имя.
— Миссис Стесси! — провозглашал неодушевленный механический голос. — Миссис Розамунд Стесси!
Я снова встала и подошла к сестре, у которой был мой конверт. Она повернулась и спросила меня:
— Что вам?
Я ответила:
— Меня вызвали, что мне делать?
— Идите к акушерке, — распорядилась сестра.
— А куда? — переспросила я, уже довольно резко, потому что мне было непонятно, как я или кто-то другой может по наитию догадаться, где находится акушерка.
— Ах, вы не знаете? — удивилась сестра и показала на дверь в правом дальнем углу зала.
Я направилась туда, постучалась и вошла в кабинет.
Акушерка оказалась интересной молодой женщиной с красивыми рыжими волосами, голубыми глазами и мелкими чертами лица:
— А, это вы, миссис Стесси! — приветливо сказала она, протягивая мне из-за стола руку. — Я — сестра Хэммонд. Здравствуйте.
— Здравствуйте, — откликнулась я и подумала, что наконец-то попала в цивилизованный мир, но, тем не менее, сочла необходимым поправить ее. — Только я не миссис. Я — мисс.
— Да, да, — улыбнулась она холодно, но любезно, — мы всех здесь называем «миссис», такой у нас обычай.
Она была человеком воспитанным и не могла не видеть, что такое же воспитание получила и я, поэтому я тоже сдержанно улыбнулась, хотя ее объяснение не слишком мне понравилось. Мы немного побеседовали о том, как она не верит в естественные роды и как набиты родильные отделения, а потом она велела мне заполнить бесчисленное количество бланков и других бумаг, где надо было подробно сообщить о всех прошлых болезнях и о домашних условиях. Когда я сказала, что живу одна в квартире из пяти комнат, ее улыбка сделалась еще более вежливой и холодной. Я поняла, что она принимает меня за представительницу беспутных богатых лондонских девиц (и нельзя сказать, что она была так уж безумно далека от истины). Счастье еще, что, находясь на своем посту, она не посчитала возможным поинтересоваться, почему я не совершила единственно разумный и понятный поступок — разве я не могла позволить себе сделать дорогостоящий аборт? Акушерка мне не нравилась, но мы говорили на одном языке и она не внушала мне опасений, не то что те расплывшиеся несчастные женщины в приемной. Я чувствовала, что вверяю себя в надежные, умелые и профессиональные руки.
Кончив опрос, она сказала:
— Ну вот, миссис Стесси, пока все, увидимся снова через месяц.
— Вы хотите сказать, я свободна? — радостно спросила я, вставая.
— Не совсем, — ответила акушерка. — Боюсь, теперь вам придется подождать доктора Эсмонда.
— Понятно, — протянула я. — Я еще не очень хорошо разбираюсь в здешних правилах.
— Ничего, — утешила она меня, поднимаясь и давая понять, что я могу идти — вся белоснежная и накрахмаленная, сама холодность. — Ничего, скоро освоитесь. Здесь все быстро осваиваются.
Я вышла и села ждать своей очереди к доктору Эсмонду и ждала до самого конца, пока в приемной уже никого не осталось. Меня осматривали впервые в жизни, и с доктором Эсмондом — седовласым мужчиной в очках без оправы — я бы еще примирилась, но когда, один за другим, меня стали обследовать пять студентов, мне показалось, что это уж слишком. Я лежала, зажмурившись, и спокойно улыбалась, стараясь скрыть негодование. Я знала, что это в порядке вещей, врачам надо учиться, студентам-медикам надо держать экзамены; доктор Эсмонд задавал им вопросы: какова высота свода, могут ли они определить сроки беременности и как насчет таза? И все в один голос заявляли, что таз узкий, а я лежала, слушала их и давала себя ощупывать, безропотно, как труп, в котором копаются будущие патологоанатомы, пытаясь доискаться до причины смерти. Но я-то не была мертва! О, нет! Ни в коем случае!
Как и предсказывала сестра Хэммонд, я освоилась. Теперь я знала, в какое время приходить и как лучше подсунуть мою карточку в стопку, чтобы меня пораньше вызвали. Все здесь было так бессистемно, что перехитрить эту их систему не мог никто, но иногда неожиданно удавалось добиться чего-то в свою пользу. Я научилась прочитывать вверх ногами бумаги, на которых значилось: «Не для больных». Научилась проходить осмотр, снимая с себя минимум одежды. Поняла, что таблетки железа и витамины надо выбивать — их вечно забывали выдать. И все равно визиты в клинику были сплошной мукой — беспросветным мраком без малейшего проблеска радости. Моя единственная цель всегда состояла в том, чтобы как можно скорее унести оттуда ноги. Больше всего я ненавидела бесконечные разговоры о родах, которые постоянно велись вокруг меня в очереди. Все живописали, как рожали они сами, как рожали их сестры, матери, тетки, бабушки и подруги, а остальные, в том числе и я, раскрыв рот слушали. И самое постыдное, что эта тема интересовала нас больше всех других, вернее сказать, другие нас вовсе не интересовали. Роды, боль, страх и надежда — вот что помогало нам сплотиться в мрачном благоговении, и узы эти были столь крепки, что даже я — дважды и трижды пария из-за отсутствия у меня мужа, из-за наличия образования, из-за моей классовой принадлежности — даже я иногда не выдерживала и считала себя обязанной внести свою лепту в общий разговор. Например, поведать всегда проходившую на «ура» историю о том, как моя сестра рожала своего второго в снежную бурю прямо в санитарной машине. Голос природы и впрямь оказался столь силен, что к концу шестого месяца наших визитов в клинику дамы из приемной стали мне ближе моих старых друзей.