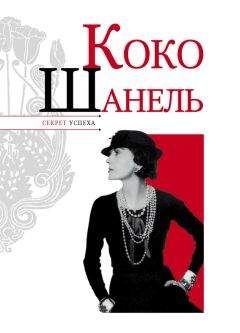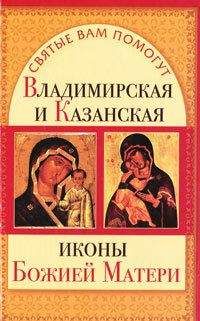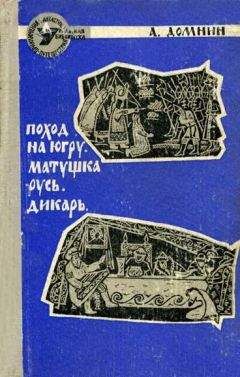Ана Матуте - Первые воспоминания. Рассказы
В тот раз я тоже отправилась в кафе. (Я отчаянно просилась в рощу: «Бабушка, пусти меня с ними!» — «Ни за что! Какая чушь! Девочка с мальчиками… Да еще с такими… этот Гьем…» — «Но ведь Лауро едет!» — «Что с того?»)
В кафе была мансарда, куда пускали только Борху и Гьема. Борха знал, что у Гьема с Марине есть секреты. Марине был старый — за пятьдесят, невысокий, с круглой спиной и выпуклой грудью. Ребята сидели на террасе, над морем; к вечеру туда приходили взрослые. Марине ставил на стол стаканы. Он подавал вино, маслины, консервы. Иногда он кормил каких-то приезжих, если его заранее предупреждали. Местные были бедны, жили рыбной ловлей. Всем было известно, что Марине и многие его гости причастны к контрабанде. Борха говорил: «Гьем знает, в какие пещеры они прячут барахло. А потом — берут». Мне казалось, что все это слишком просто для преступления. Здесь было много пещер. Гьем и Марине очень дружили; когда они разговаривали, я вспоминала, что Гьем гораздо старше нас — не столько годами, сколько тем, что понимал с полуслова непонятные нам вещи. Даже улыбался он так, словно старше не на год, а намного больше. Может, именно поэтому Борха объявлял перемирие, и все отправлялись в рощу. Если погода была хорошая, мы рассаживались у Марине, над морем, на мешках и канатах. Тут висели клетки с попугаями, и Марине совал им мясо на железке. Завидев нас, попугаи поднимали крик, как будто ругались. Марине жил один, сам себе стряпал. Мы часто ели с ним из общей миски. Глядел он только правым глазом, — левый скрывался под бровью, — и всегда с большим почтением спрашивал о бабушке. С Китайцем он почти не разговаривал и смеялся, когда Борха изводил его. С Борхой они беседовали о владельце Сон Махора. Марине много знал про Хорхе и говорил про него совсем не так, как Тон или Антония, для которых он был вроде черта. Марине очень любил его. Борха внимательно слушал, а Китаец слушал неохотно. Помню, какие были сумерки, когда мы сидели там, на террасе, попугаи горланили в клетках, а свет за стеклянной дверью становился синим и золотым. Марине говорил, что Сон Махор приходится Борхе родственником, — почему-то обо мне он не сказал, — и хитро глядел на моего брата, а тот слушал, приоткрыв рот, и глаза у него блестели.
— Что, будешь таким, как он? Э, куда тебе! Кишка тонка!
Борха улыбался и не знал, что ответить. Никто не говорил с ним, как Марине. Я так и вижу: он стоит на коленях, на мешках, и глядит на старика, а тот держит в пальцах огромную сигарету. Сплевывает на пол, смеется — из левого, больного глаза ползет слеза — и дразнится:
— Куда тебе!
Я понимаю, что Борха улыбается для вида, а сам трясется от злости, досады и зависти. Он хотел только одного — хотя и сам не знал, как сильно и как за это поплатится. Он хотел, чтобы когда-нибудь им восхищались вот так и чтобы владелец Сон Махора заметил его хоть раз. Многие — скажем, Тон — не поклонялись его кумиру, но это подзуживало Борху еще больше. (Как-то вечером, когда мы лущили миндаль, словоохотливый Тон тихо рассказывал нам с лукавым, таинственным видом: «Этот самый Сон Махор был вроде тронутый, одержимый. Со здешними ни с кем не знался, даже из богатых. Набрал себе дружков по морям — ну и дружки, настоящие пираты! Марине с ним ходил на „Дельфине“ к этим басурманам. Да, свихнулся дон Хорхе, разум потерял, или, вернее сказать, бес попутал. Отец его очень баловал, ничего не жалел. Только помирал старик один, тут, в поместье и все звал его, звал. Ну, сынок-то по морям, по островам, словно гром по небу. Вернулся, а отца уж схоронили. Он траура не надел, отца не почтил… куда там!.. Набрал в дом всякой швали — кутили, блудили, беса тешили. И вот что говорят: явился к ним бес в плаще, очки черные и жутко так хохочет, у нас — и то слышали. К „Дельфину“ никто не подходил — чар боялись. По ночам светился он нехорошо… Бог знает, что там было! Тут одна, не буду называть, очень важная сеньора, мужа кинула и — к нему. Так и пропала, как в преисподнюю. У него на женщин была особая сила — с ума сходили по нему, по дьяволу. Весь остров в страхе держал! А жен, говорят, было у него четыре штуки. Одна — не из наших, черная, и лопотала не по-людски. Он тут и месяца не жил, все плавал на своем „Дельфине“, как на „Летучем Голландце“, а делать ничего не делал, деньги просаживал на всякую дрянь. Только время-то пощады не дает. Время всем хозяин. Вот теперь он — хворый, старый, один-одинешенек… Ребята его боятся, матери их пугают: „Шалить будешь — дону Хорхе отдам!“ Бог покарал. Все уходит. Все как есть».)
А Марине говорил:
— Теперь его не видно, дома сидит. Умирает.
Потом задумается и прибавит:
— Пойду к нему как-нибудь. Он меня помнит, я у него служил. Если кто из прежних зайдет, он угощает вином. Он — большой сеньор, уважает своих слуг. Да, сеньор. Теперь таких и нет.
Китаец говорил:
— Когда-то донья Пракседес с ним дружила.
— Вот именно, когда-то! Теперь он о родичах и знать не хочет. Пойду-ка я к нему… Мы с ним далеко плавали. К островам. — И короткая, красная рука с широкими, как лапы, пальцами указывала вдаль, где мерцало море, от одного взгляда на которое захватывало дух. — А теперь дома сидит, заперся. Тьфу! И крыса эта, Санамо, играет ему на гитаре. Подачками не гнушается… Я бы так не мог после всего, что мы с ним перевидали! Санамо, гадина, пользуется, что сеньор наш бедный вспоминает прежнее… Ворошит старое, на гитаре своей собачьей играет, чтобы не выгнали. А кто он был? Предатель, и больше ничего. Последний матрос у нас на «Дельфине». Самый последний…
Гьем угрюмо смеялся из угла:
— Да, дона Хорхе повсюду знают.
Марине и Гьем загадочно улыбались. Борха визгливо начинал:
— Мы одного рода. Китаец прав, наша семья была очень дружная. Бабушка с ним дружила… Да никто, собственно, и не ссорился.
— Никто, дорогой, никто. — Марине перекидывал окурок в другой угол рта. — Ясное дело, все тебе оставит!
Гьем давил ногой муравьев. (Они кишели повсюду. Весь остров изрезали их дорожки, пронизали их узкие ходы, как бесконечные пустые жилы. Муравьи шныряли по ним взад-вперед.) Марине совал шумовку в банку с маслинами, и они, словно капли, падали на тарелку.
— А ты пойдешь к нему?
Китаец клал руку Борхе на плечо. Рука была странная: желтая, сухая. Враждебная, а чего-то просит или хочет. Борха сидел прямо и улыбался застывшей улыбкой, которую я так хорошо знала.
— Да. Конечно, зайду как-нибудь. Он мне дядя.
— Вроде того, вроде того, — смеялся Марине. — Ладно, пойдешь — напомни про меня, поговори о прежнем времени. У него был полный шкаф золота. Прямо столбиками сложено! «Бери, — говорит, — бери, Марине, ты парень хороший». Я ему верно служил. И не за жалованье, не-ет!
Гьем и Марине снова переглядывались и глухо смеялись. Каким бывалым казался мне Гьем, этот хитрый мальчишка с черными глазами! Борха тоже смеялся, но как-то нехотя. Марине подавал нам плохое вино, оставлявшее на губах и на зубах темный осадок. Иногда мы пили что-то крепкое, вроде агуардьенте[7], и очень веселели.
— Все острова прошел, — рассказывал Марине, и правый глаз у него сверкал, как бабушкин бриллиант. — Жаль, парусник продал… А другие говорят, не продал, сжег. Не знаю, что с «Дельфином». Ох, и любили мы этот корабль! Я как узнал, подумал: «Сеньор с „Дельфином“ расстался — значит, худо дело».
— Он не болен, — сказал Китаец. — Я видел недавно, он поливал в саду цветы.
— Худо дело, — повторил Марине, и глаз его потерялся под мохнатой бровью.
Потом они отправлялись в рощу, а я возвращалась домой на «Леонтине» и думала про все это. Приставала к берегу, поднималась к дому, не в силах забыть, как они уходили, и стряхнуть очарование разговоров. Входила в патио и тихо, чтоб бабушка не услышала, мылась и переодевалась к ужину. Бабушка спрашивала:
— Где ты была?
— Занималась.
Она смотрела, есть ли чернила на пальцах, и приближала к моим губам большой нос — не пахнет ли табаком. (Я успевала нажеваться мятных карамелек, которые Марине держал в высоких жестянках из-под бульонных кубиков.)
— Какой он, этот Хорхе? — спросила я Антонию. — Правду говорят, что к нему приходил бес?
Антония стелила мне постель и, сунув руку в пододеяльник, расправляла его. Потом обернулась.
— Он теперь очень старый. Раньше был красавец мужчина… Да, настоящий был сеньор, благородный и немножко не в себе. Тут его не могли понять. Он по-своему жил, никого не боялся, здесь такого и не видали. Он… как бы сказать? Он все сметал, словно буря. Деньги по ветру пустил, страшно подумать.
— У него еще много денег! Золота целый шкаф.
— А, что это ему! Пустяки, — сказала она.
И презрительно поджала губы. (Не знаю, почему я вспомнила фотографию, заткнутую за зеркало, — Антония с маленьким Лауро.) Она отрывисто засмеялась и добавила, словно про себя:
— Придумал… подарил Хосе с Малене участок прямо посреди откоса, на сеньориной земле… Донья Пракседес очень была недовольна.