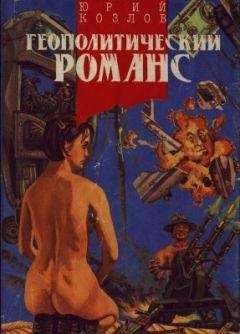Генрих Бёлль - Ангел молчал
— Спасибо, — пробормотал он. — Большое спасибо. Сейчас еще можно туда пойти?
— Нет, — покачала она головой. — Сейчас уже поздно. Не успеете до комендантского часа. Так что идите в свое убежище, а завтра утром…
— Да, конечно, — кивнул он. — Спасибо, большое спасибо…
VIII
На стене висел большой кусок картона, на котором черной краской вкривь и вкось было выведено: «Залог — 100 марок и удостоверение личности». Пахло затхлостью, нищетой и специфическим запахом летнего пота бедняков. Он медленно продвигался в длинной очереди вперед, к темной дыре в толстой бетонной стене с надписью: «Вход». Женщина, сидевшая возле темной дыры и распоряжавшаяся кучей грязных и рваных одеял, спросила у него документ, и он протянул ей справку об освобождении из лагеря, которую раздобыла Регина. Женщина записала его фамилию в список и бросила кратко: «Одеяло?» А увидев, что он отрицательно мотнул головой, подтолкнула его вперед. Ее серое лицо нервно и алчно дернулось, и она выхватила из рук следующего по очереди его грязную справку. А сзади напирали: «Проходите, проходите»…
Людской поток понес его внутрь помещения. Там уже было полно народу. Все столы и скамьи были заняты, так что ему пришлось сесть на пол: ноги не держали. В зале было сумрачно, дневной свет пробивался в какую-то щель, лампы не горели. Внезапно все начали требовать света, вся толпа, алчущая света, хором завопила: «Света! Света!» В дверях появился угрюмый служащий и сухо объявил, что света больше не будет, потому что каждую ночь крадут лампочки. Он выждал, когда утихнет шум, и сообщил правила распорядка, которые сводились к тому, что следует остерегаться воров и что утренние поезда будут объявлены…
Он сидел на бетонном полу в одном из углов зала, где его не могла затоптать толпа новоприбывших, и был рад, что обрел наконец какой-то покой. Но когда окончательно стемнело, стало совсем плохо. Каждый прибывающий поезд привозил новые полчища оборванцев — грязных бродяг с мешками картофеля или помятыми чемоданами, освобожденных из лагерей солдат, растерянно теребящих свои серые пилотки или прячущих руки в карманах шинелей. Каждый раз как прибывала очередная партия, дверь открывалась, и в слабом свете, падавшем из коридора, он видел только головы новоприбывших, казавшихся черными силуэтами…
Позднее еще раз появился тот служащий и объявил в темноту зала, что курить запрещается. В ответ раздался возмущенный вой, и служащий раздраженно бросил:
— По мне — курите, чтоб вы сдохли!
В разных концах зала горели огарки свечей и вместе с тлеющими огоньками сигарет и трубок создавали призрачное освещение. Позади Ганса на скамье сидели две женщины, своими ящиками и чемоданами захватившие большой участок пола. Когда он рассматривал лица окружавших его людей по отдельности, все они производили впечатление таких же нищих, уставших и молчаливых, как и он сам, но в массе своей толпа казалась враждебной и агрессивной. А когда свечи одна за другой погасли и в темноте засветились лишь слабые огоньки сигарет, все вокруг начали есть. Женщины, сидевшие позади него, жевали особенно громко: они все чавкали и чавкали, неутомимо и бесконечно двигали челюстями, поглощая сначала хлеб, много хлеба, — долго, очень долго слышал он это сухое, как у кроликов, пережевывание пищи — так они в темноте ели хлеб. Потом принялись за что-то сочное и в то же время хрустящее, видимо, фрукты, яблоки. Под конец они стали что-то пить: он явственно слышал булькающие звуки, когда они пили из горлышка. Слева и справа от него, спереди и сзади, с наступлением полного мрака все принялись за еду, словно только его и ждали, чтобы поесть. Сотни челюстей скрытно жевали и грызли, то тут, то там вспыхивала быстро подавляемая ссора. И этот всеобщий жор отложился у него в мозгу как отзвук некоего проклятья, имени которого он не знал. Утоление голода уже не казалось ему теперь приятной потребностью. Оно было мрачным законом существования, вынуждавшим людей заглатывать пищу, любой ценой заглатывать, не утоляя, а, наоборот, словно даже усиливая голод. Ему казалось, что они задыхались, жуя. Этот процесс длился часами, и, когда часть бункера вроде бы утихомиривалась, снаружи, с вокзала, втискивалась новая толпа, становилось все теснее, и через какое-то время вокруг снова начинали шелестеть бумагой, вскрывать картонные коробки, торопливо рыться в мешках и пакетах, отщелкивать замки чемоданов — под покровом темноты опять раздавалось это отвратительное бульканье…
Потом началось перешептывание: во мраке люди тихонько делились воспоминаниями об удачном обмене вещей на продукты в деревне или жаловались на исчезновение запасов…
Пот выступил у него на лбу, хотя он дрожал от холода. Он обнаружил рядом угол какого-то одеяла, сел на него и прислонился спиной к туго набитому рюкзаку — картошка в нем на ощупь казалась костями какого-то таинственного скелета. Кое-кто все еще курил, огоньки тлеющих сигарет вроде бы даже множились, воздух становился удушливым и зловещим. Потом в одном из углов едва слышно заиграла губная гармоника. Раздался громкий возглас: «„Эрику“ давай, сыграй „Эрику“!» Гармоника сыграла «Эрику». Другие голоса просили исполнить какие-то еще песни, и тогда игравший хриплым голосом потребовал, чтобы ему заплатили. В темноте стали передавать невидимые дары — в невидимые руки клали и отправляли их в быстрое и беззвучное путешествие во мраке: ломоть хлеба или яблоко, пол-огурца или окурок. Внезапно где-то разгорелся скандал — ругань и драка — из-за того, что какую-то мзду не передали адресату. Во всяком случае, гармонист утверждал, что ее не получил, и отказывался сыграть заказанную песню. Соседи жертвователя в мгновение ока установили место, где она исчезла. В темной массе тел смутно обозначились движения спорщиков: угрожающие волны наседающих и замахивающихся людей. Потом вдруг наступила тишина, и гармоника заиграла по заказу кого-то другого.
Две женщины за спиной Ганса, видимо, уже уснули, с их стороны не доносилось ни звука, чуть подальше слышалось похотливое хихиканье парочки, гармоника умолкла, мерцающих сигаретных огоньков стало заметно меньше. Слева и справа руки его наткнулись на бесформенные тюки, он так и не понял, мешки это были или люди…
Потом он, наверное, заснул и был внезапно разбужен диким криком: кто-то в темноте наступил на лежащего. Судя по всему, началась драка, в результате которой пропало одно место багажа. Высокий взволнованный мужской голос вопил: «Мой чемодан, мой чемодан… Мне надо на поезд в два сорок!» Целый хор голосов подхватил: «В два сорок будет поезд, нам он тоже годится». В темноте началась суматоха и возня, а мужской голос все твердил про свой чемодан. Потом дверь распахнулась, и в слабом свете электрической лампочки Ганс увидел, что в коридоре стоит плотная толпа. А тот мужчина завопил: «Полиция, полиция, мой чемодан!..»
Воцарилась мертвая тишина, когда в коридоре две; полицейские каски стали протискиваться вперед. Потом очень яркий луч большого карманного фонаря врезался в темноту зала, осветив танцующие в воздухе пылинки и согбенную в ожидании толпу людей, — вид у них был смиренный, как бы молитвенный, и лица обращены к свету.
Голос полицейского сказал спокойно и четко:
— Чемодан. Если его не…
Но в этот миг мужчина, очевидно, уже заполучил свой чемодан, потому что крикнул:
— Да вот он, чемодан, нашелся!
Тут же из толпы понеслись выкрики:
— Старый идиот! Глупая свинья! Нечего было рот разевать!..
Дверь закрылась, стало опять темно, но с этой минуты Гансу больше не спалось. Каждые четверть часа в зале возникало и распространялось волнами тревожное движение: то объявляли прибытие поезда, то подзывали знакомых, то вопили, разыскивая свой багаж, а воздух в этом бетонном мешке становился все более душным и отвратительным…
Ганс то и дело вытирал пот со лба, в то же время чувствуя, что подмерзает снизу. Кусок одеяла и рюкзак, к которому он прислонялся, исчезли. Он медленно пополз дальше, пока не наткнулся на какое-то препятствие, склонился над ним, чтобы выяснить, что это — мертвое или живое, и в нос ему ударил резкий запах лука. Он обнаружил, что это большая корзина с луком, обшитая мешковиной. Ганс сел на корзину — сама возможность нормально сидеть была необычайно приятна. Он уселся поудобнее, опустил голову на грудь и вновь уснул, но ненадолго: кто-то столкнул его с корзины, и голос столкнувшего сказал: «Наглая свинья». Он очутился на каменном полу, отполз в сторону, скорчился и замер в ожидании…
Стало немного просторнее, и он пополз дальше, пока не услышал вблизи чье-то дыхание. Он осторожно подобрался поближе, нащупал чью-то голень и туфлю. Туфля была женская — маленького размера и на высоком каблуке, и он склонился над спящей там, где должно было находиться ее лицо. Теплое дыхание мягко коснулось его щеки, он подставил ладони потоку теплого воздуха, исходившему из ее рта, и склонился еще ниже, но так ничего и не смог разглядеть. Потом он различил в запахе этой незнакомой женщины — он не мог определить ни ее возраста, ни внешности — что-то похожее на хорошее мыло: в нем чувствовался легкий аромат духов. Он так и остался сидеть, склонившись над ней и подставив лицо ее дыханию, — оно было такое теплое и спокойное, а аромат хорошего мыла чувствовался все сильнее и сильнее. Потом он привалился к ней сбоку и прижался лицом к ее пальто, от которого пахло мускусом и мятными конфетами. От этого сильного и очень приятного запаха он уснул…