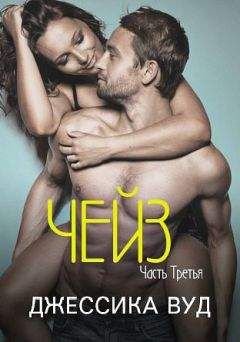Нагиб Махфуз - Избранное
— Больше мне эти наряды не понадобятся. Разве не смешно торговать бататом, завернувшись в вышитый плащ из верблюжьей шерсти?!
Вскоре он уже шагал по пустырю, толкая свою тележку по направлению к Гамалийе, к той самой Гамалийе, которая не забыла еще его пышную свадьбу. Сердце у него сжималось, голос прерывался и крик, которым бродящие торговцы зазывают покупателей, застревал в горле. В глазах Адхама поили слезы. Не желая встречаться с людьми, которые его знали, он направился в самые отдаленные кварталы и ходил по ним, крича и предлагая свой товар, с утра до вечера, пока руки его не онемели, ноги не стерлись в кровь, а суставы не заныли. Трудненько ему было торговаться с женщинами, а еще труднее ложиться на голую землю где–нибудь под забором, чтобы перевести дух от усталости, или справлять нужду в каком–нибудь углу.
Жизнь казалась не взаправдашней. А прекрасный сад, имение и покои, выходящие окнами на Мукаттам, вспоминались как сказка. Адхам думал: «Нет ничего непреходящего на этом свете. Большой дом и недостроенная хижина, чудесный сад и ручная тележка, вчера, сегодня и завтра — все это нереально. Наверное, я хорошо сделал, поселившись на виду у Большого дома. Так я хоть не потеряю свое прошлое, как уже потерял настоящее и будущее. Ведь не было бы ничего удивительного, если бы я лишился памяти так же, как лишился отца и самого себя!»
А когда поздним вечером он возвращался к Умейме, ему некогда было отдыхать — надо было достраивать хижину. Однажды, проходя около полудня по кварталу аль-Ватавит, Адхам присел отдохнуть и задремал. Он очнулся, услышав шум оказалось, мальчишки хотели украсть его тележку. Вскочив на ноги, Адхам бросился за похитителями. Спасаясь от преследования, один из мальчишек опрокинул тележку, и огурцы рассыпались по земле. Мальчишки тем временем тоже бросились врассыпную, как саранча. Адхам пришел в неистовый гнев, и из уст его привыкших произносить только вежливые речи, полились потоки самой грязной брани. Он вынужден был ползать по земле на коленях, подбирая испачканные огурцы. Злость душила его, и он, как безумный, восклицал: «Почему гнев твой безжалостен, как испепеляющий огонь? Почему гордость тебе дороже родных сыновей? Как можешь ты жить в покое и довольстве, зная, что нас топчут ногами, словно букашек? О могучий, известны ли в твоем Большом доме снисхождение, милосердие и доброта?» Ухватившись за ручки своей тележки, он покатил ее прочь от проклятого квартала. Вдруг над ухом его раздался насмешливый голос:
— Почем огурцы, дядя?
Это был Идрис с его наглой ухмылкой. На сей раз, одетый в яркую полосатую галабею, с белой повязкой на голове, он выглядел щеголем. И хотя он не буянил и не шумел, а всего лишь насмешливо улыбался, свет померк в глазах Адхама. Он хотел было пройти, не останавливаясь, но Идрис загородил дорогу и, изображая изумление, спросил:
— Неужели такой клиент, как я, не заслуживает лучшего обращения?
— Оставь меня в покое, — нервно тряхнул головой Ад–хам.
— Разве приличествует таким тоном разговаривать со старшим братом? — продолжал издеваться Идрис.
Пытаясь сдержаться, Адхам проговорил:
— Послушай, Идрис, разве не достаточно того зла, которое ты мне уже причинил? Я не желаю больше с тобой знаться!
— Как можно?! Ведь мы соседи!
— Я не искал твоего соседства. Я хотел лишь остаться вблизи от дома, который…
— Из которого тебя выгнали!
Адхам умолк, лицо его побледнело от досады. А Идрис продолжал:
— Место, откуда ты изгнан, притягивает. Не так ли? Адхам не отвечал. Идрис погрозил ему пальцем.
— Ты мечтаешь вернуться в дом, хитрец. Ты слаб, но преисполнен хитрости. Так знай же, я не допущу, чтобы возвратился ты один, даже если небо обрушится на землю.
С раздувающимися от гнева ноздрями Адхам переспросил:
— Неужели тебе мало того, что ты со мной сделал?
— А тебе разве мало того, что ты сделал со мной? Я был любимцем всего дома, а ты стал причиной моего изгнания.
Причина твоего изгнания — твоя заносчивость. Идрис расхохотался.
— А причина твоего изгнания — твоя слабость. В Большом доме нет места ни силе, ни слабости! Отец твой — тиран. И силу, и слабость он допускает только в самом себе. Он силен до такой степени, что губит собственных детей! И слаб до такой — что женился на твой матери.
Адхам нахмурился и дрожащим голосом сказал:
— Пропусти меня. Приставай, если хочешь, к таким же силачам, как ты сам.
— Твой отец не дает спуску ни силачам, ни слабым. Я вижу, ты не хочешь его осуждать. Ты слишком хитер! И к тому же мечтаешь вернуться!
Взяв в руку огурец, он презрительно разглядывал его, говоря:
— Как это тебе взбрело на ум торговать какими–то грязными огурцами? Неужели ты не мог найти более достойного занятия?
— Мне оно нравится!
— Тебя заставила нужда. А твой отец наслаждается довольством и уютом. Подумай–ка, не лучше ли тебе принять мою сторону?
— Я не создан для той жизни, которую ты ведешь.
— Взгляни на мою галабею. Еще вчера в ней щеголял ее владелец без всякого на то права!
В глазах Адхама отразилось удивление.
— А как она досталась тебе?
— По праву сильного!
— Украл или убил… Я не верю, что ты мой брат, Идрис!
— Чему ты удивляешься, зная, что я сын Габалауи?!
Потеряв терпение, Адхам воскликнул:
— Уйди с дороги!
— Как будет угодно Вашей глупости. Идрис набил карманы огурцами, бросил презрительный взгляд на их владельца, плюнул на тележку и отправился восвояси.
Умейма ожидала Адхама, стоя у хижины. Пустырь был уже окутан мраком, и свечка внутри хижины светилась, как последняя искра надежды. А небо было усыпано яркими звездами, и в их свете Большой дом казался гигантским призраком. По молчанию мужа Умейма поняла, что ей лучше оставить его в покое. Она подала ему таз с водой умыться и чистую галабею. Адхам вымыл лицо и ноги, переменил одежду и сел на землю, прислонившись спиной к стене своего жилища. Жена приблизилась к нему с опаской, уселась рядышком и заискивающе проговорила:
— Если бы я могла переложить на свои плечи хоть частицу твоей усталости.
— Молчи, несчастье мое! — крикнул Адхам в сердцах, словно она сказала последнюю глупость.
Умейма поспешила забиться в дальний угол, но супруг ее уже не мог остановиться.
— Всю жизнь ты будешь мне напоминанием о моей глупости! — кричал он. — Будь проклят тот день, когда я тебя увидел.
Из темноты донеслось рыдание, но оно лишь распалило Адхама.
— Плачь, плачь. Может быть, со слезами из тебя выйдет часть подлости, составляющей основу твоего существа.
Он услышал плачущий голос:
— Все слова — ничто по сравнению с моей мукой.
— Скройся с глаз. Я не желаю терпеть твое присутствие. Он свернул в комок снятую с себя галабею и швырнул в нее.
— Мой живот! — охнула Умейма.
И тут же гнев Адхама остыл. Он испугался за жену. По его молчанию Умейма поняла, что худшее позади, и страдающим голосом проговорила:
— Как хочешь, я могу уйти совсем.
Поднялась и заковыляла прочь от хижины. Наконец Адхам не выдержал, крикнул:
— Хватит капризничать. Вернись!
Вглядываясь в ночную тьму, он увидел, как тень ее повернула обратно. Тогда он откинулся назад, оперся спиной о стену и устремил взор в небо. Его очень тревожило, не причинил ли он вреда Умейме, но гордость не позволяла спросить, как ее живот. Вместо этого он сказал:
— Помой огурцов на ужин.
11.
Вечерний отдых и здесь не лишен приятности. Правда, тут нет ни растений, ни воды и птицы не поют в ветвях, но сухая, бесплодная почва пустыни ночью странно меняет свой облик, дает богатую пищу воображению мечтателя. Над ним — купол небес, усеянный звездами. В хижине — женщина. Его одиночество полно значения. Печаль — как угли, присыпанные золой. Высокая стена дома дразнит тоскующее сердце. Этот всесильный отец, как заставить его услышать мой стон? Разум советует забыть прошлое. Но как забыть?! Ведь прошлое у нас одно. Поэтому я возненавидел свою слабость и проклял свое бессилие. Я примирился со страданием, оно стало моим постоянным спутником. Птица, которой никто не запрещает жить в саду, счастливее меня. Глаза мои истосковались по виду чистых струй, текущих между розовых кустов. Где аромат хенны и запах жасмина, где? Где душевный покой и звук свирели? О жестокий, полгода прошло. Когда же растопится лед твоей суровости? Издалека донесся противный голос Идриса, поющего: ««Чудеса, о Господи, чудеса». А вон и он сам разжигает огонь перед своей лачугой. В свете вспыхнувшего пламени видна жена Идриса с торчащим вперед животом. Она ходит туда–сюда, подавая мужу то еду, то питье. Идрис пьян, как всегда. В ночной темноте он обращает свою речь к большому дому: