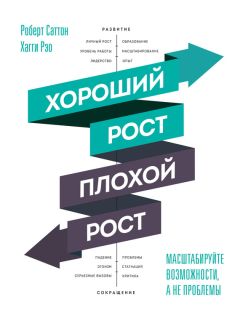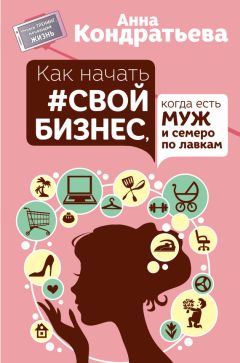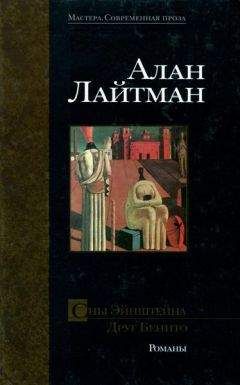Алан Лайтман - Сны Эйнштейна
28 июня 1905
Не переедай, — стучит бабушка по плечу своего сына. Не то помрешь до меня, и некому будет заботиться о моем серебре. — Семья выбралась на пикник на берегу Аре в десяти километрах к югу от Берна. Девочки, покончив с едой, бегают друг за дружкой вокруг лиственницы. У них начинает кружиться голова, они валятся в густую траву, немного лежат спокойно, потом катаются по земле опять до головокружения. На одеяле сын с очень толстой женой и бабушка едят копченую свинину, сыр, хлеб с горчицей, виноград, шоколадный пирог. Легкий ветерок набегает на реку, и жующие и запивающие вдыхают сладостный летний воздух. Сын снимает ботинки и шевелит пальцами в траве.
Вдруг над головами проносится стая птиц. Молодой человек подхватывается с одеяла и бежит за ними, не тратя времени на обувание. Он пропадает за холмом. Вскоре к нему присоединяются люди, углядевшие стаю еще на вылете из города. Одна птичка опускается на дерево. Женщина взбирается по стволу, тянется схватить птицу, но та легко перепархивает на верхнюю ветку. Женщина лезет выше, осторожно садится на ветку, ползет. Птица порхает на прежнюю ветку, ниже. Женщина еще на ветке, а по земле уже скачет другая птица, клюет семена. К ней подкрадываются двое мужчин с огромным стеклянным колпаком. Но быстрая птичка не про них, она взмывает в воздух и вливается в стаю.
Сейчас тины летят городом. На колокольне Святого Винсента стоит пастор и пытается заманить птиц в арочные окна храма. Старуха в парке Кляйне Шанце видит, как птицы, присев, облепили куст. Она медленно бредет к ним со стеклянным колпаком, заранее знает, что ничего не поймает, роняет колпак на землю и начинает плакать.
И она не одинока в своем отчаянии. Каждый мужчина и каждая женщина страстно желают поймать птицу. Потому что эта соловьиная стая есть само время. Время трепещет, суматошится, скачет в этих птицах. Накройте соловья стеклянным колпаком — и время станет. Уловленное мгновение сберегается для всех людей, деревьев и земли.
Вообще же птицы редко ловятся. Угнаться за птицами могут только дети, а у них нет желания останавливать время. Для детей время и так движется слишком медленно. Они торопят следующий миг, ждут не дождутся дней рождения и новогодних праздников, они не чают перевалить за первую половину жизни. Л пожилым отчаянно хочется задержать время, но уже не та прыть и не те силы, чтобы ловить птичку. Для пожилых время скачет намного быстрее. У них руки чешутся присвоить хоть минуту от утреннего чаепития, или те несколько секунд, когда внучка пугается в платьице, или тот полдень, когда, отразившись на снегу, солнце заливает светом музыкальную комнату. Но они нерасторопны. Остается только смотреть, как под носом скачет и летит недоступное время.
Когда случается поймать соловья, ловцы не скрывают радости, что заморозили юркое мгновение Они упиваются сохранностью на своих местах родных и друзей, улыбок, вновь и вновь переживают радость награды, рождения, любви, не могут надышаться запахом корицы и белых махровых фиалок. Ловцы радуются замороженному мгновенью, но скоро обнаруживается, что соловей чахнет, что его чистая переливчатая песня, слабея, смолкает совсем, что пленный миг выдохся и кончился.
Эпилог
Вдалеке бьют восемь раз башенные часы. Молодой служащий патентного бюро отрывает голову от стола, встает, потягивается и направляется к окну.
За окном уже бодрствует город. Жена дает мужу сверток с едой, они препираются. По пути в гимназию на Цойгхаусгассе мальчишки перебрасываются мячом, предвкушают летние каникулы. Две женщины с пустыми сумками спешат на Марктгасссе.
Скоро в комнату входит старший служащий, направляется к своему столу и. не сказав ни слова, принимается за работу. Обернувшись. Эйнштейн смотри: на часы в углу комнаты. Три минуты девятого. Он перебирает мелочь в кармане.
В четыре минуты девятого появляется машинистка. Она видит у окна Эйнштейна с рукописью в руках и улыбается. Она уже печатала ему несколько неслужебных работ в свободное время, и он охотно платил ей. сколько она спрашивала. Сдержанный человек, хотя иногда отпустит шутку. Он ей нравится.
Эйнштейн отдает ей рукопись, свою теорию времени. Шесть минут девятого. Он идет к своему столу. смотрит на груду папок, направляется к полке, тянет из кучки тетрадку с записями. Бросив, возвращается к окну. Для конца июня необыкновенно ясный воздух. Над крышей жилого дома он видит вершины Альп, голубые от белого снега. Еще выше крохотной точкой медленно петляет в небе птица.
Эйнштейн возвращается к столу, присаживается па минуту и снова идет к окну. Он чувствует опустошенность. Ему неинтересно писать отзывы на патентные заявки, неинтересно говорить с Бессо, неинтересно думать о физике. Он чувствует опустошенность и без всякого интереса смотрит на крохотную точку и Альпы.
К истории времени
Книга Алана Лайтмана вызвала бурный энтузиазм не только у таких изощренных читателей, как, скажем, Сальман Рушди, но и у весьма широкой аудитории, о чем говорит почетное место в списке бестселлеров. Другое дело, что, обнаружив там "Сны Эйнштейна", я вспомнил Леньку Пантелеева из "Республики ШКИД": Ленька, хоть и считавшийся в ШКИДе первым поэтом, основал журнал "Вестник техники", где объяснялось, как выкручивать лампочки в подъезде. Примерно так же выглядят "Сны Эйнштейна" в окружении обычного коктейля бестселлеров, составленного из детективов, триллеров и любовных романов. Чем бы ни была книга Лайтмана, «романом» она именуется лишь потому, что неизвестно, к какому жанру относить подобные сочинения.
В предисловии к одной из книг столь популярного сейчас в России Карлоса Кастанеды антрополог Уолтер Гольдшмидт пишет: "Разные народы живут в разных мирах, отличающихся друг от друга своими "метафизическими параметрами", то есть категориями пространства, времени, каузальности и так далее. Знакомство с чужими мирами — а этим и занимается антропология — приводит к тому, что мы начинаем и собственный мир ощущать "культурной конструкцией".
Встреча с чужой картиной вселенной заставляет нас усомниться в истинности нашей. Выбитый из метафизической колеи человек теряет почву под ногами и повисает в воздухе. Но взамен он обретает зоркость, позволяющую разглядеть тайну, скрытую под покровом очевидного. Встреча с неизвестным остраняет восприятие мира: реальность превращается в игру, правила которой определяет не столько Природа, сколько Культура.
"Сны Эйнштейна" — руководство к такой игре. Меняя один из "метафизических параметров" — время, автор кроит вселенные на любой вкус. Демонстрируя возможность миров с иными временными координатами, Лайтман заставляет нас ощутить загадочную власть и того времени, в котором мы живем.
Об этом писал Августин в одиннадцатой главе своей «Исповеди»: "Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю". С этого «незнания» начинается история времени, история гипотез времени, каждая из которых формирует свою версию реальности.
Так, в фундаменте нашей действительности — линеарное гомогенное «научное» время. Всюду и всегда одинаковое, оно тянется по прямой из прошлого в бесконечное будущее.
Такое время мы ощущаем единственно возможным, правильным, нормальным, естественным, но на самом деле оно искусственного, причем сравнительно недавнего происхождения Истоки его — в христианстве, которое впервые создало концепцию уникального события — распятия Христа. С этого критического момента у истории появился вектор, и каждое событие в ней приобрело статус неповторимости. Голгофа разомкнула кольцо более древнего циклического времени.
Борьба между христианским и языческим временем продолжалась все средние века. Циклическое время было ближе и крестьянам, и земельной аристократии, и даже первым ученым, картину мира которых определяли преимущественно астрономические и астрологические образы.
Линеарное время окончательно победило только тогда, когда главную роль стало играть третье сословие — купцы, коммерсанты. Развитие денежного обращения, а значит, и «легализации» банковского процента выразилось в формуле "время — деньги": чем больше времени, тем больше денег.
Линеарное время и порожденная им идея прогресса постепенно разрушили архаический обиход, опирающийся на циклическое время. Знаком этой победы стало массовое распространение механических часов. Они, по словам американского историка и критика Льюиса Мамфорда, "отлучили время от человека и помогли создать специальный мир науки". В этом "мире математически исчисляемых последовательностей" и воцарилось хорошо нам знакомое идеальное, синхронное для всей вселенной время. Без него, без одинакового для всех времени не было бы промышленной революции. Развитие производства, фабрика, конвейер требовали синхронизации всей жизни. Машина приучала всех к своему расписанию: люди привыкли жить "по гудку". Поэтому малозначительная в древности черта — пунктуальность — превратилась в одну из главных гражданских добродетелей индустриальной цивилизации. Неудивительно, что золотые, семейные, переходящие по наследству часы считались знаком достатка, солидности и надежности.