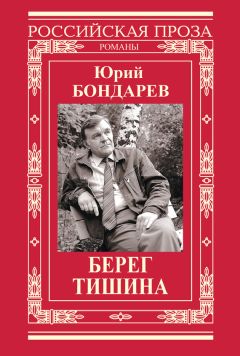Стен Надольный - Открытие медлительности
Джон не умел отпускать. Если он кого-то поймал, то держал уже мертвой хваткой. В какой-то момент на периферии нижнего поля зрения появился пистолет. Это сразу же парализовало Джона. Он решил не смотреть туда и сосредоточил все внимание на своих пальцах, будто надеясь, что они помогут ему одержать победу над пистолетом, который теперь, со всею очевидностью, упирался ему в грудь. В голове застучала тревожная мысль, заглушая собою все остальные, эта тревога росла и росла, она росла неотвратимо и безудержно, пока не взорвалась: ведь этот человек может в любой момент спустить курок и убить его, и тогда он умрет или будет долго страдать, чтобы потом скончаться от ран. Вот он, тот самый миг, и никуда от него не деться. Он неотвратимо надвигался, спасения не было. Джон со всею отчетливостью вдруг ощутил свое собственное сердце, как всякий, кто знает — смерть предпочитает действовать наверняка. Почему же он не мог выбить пистолет или отскочить в сторону? Непостижимо, но ни того, ни другого он сделать не мог! Он продолжал держать противника за горло и думал только одно: тот, кто задушен, стрелять не может. О том же, что тот, кто еще не задушен, но близок к тому, потому что чьи-то пальцы все крепче сжимают ему горло, — что он-то и выстрелит скорее, об этом Джон, быть может, и хотел бы подумать, однако не мог, ибо в такой ситуации его мозг уже отключился и словно умер. В живых осталось только одно-единственное представление, что чем больше он будет давить на это горло, тем больше у него шансов отвести от себя опасность. Человек почему-то все не стрелял.
Для солдата он был слишком уж стар, наверняка за сорок. Никогда еще Джону не доводилось сидеть верхом на взрослом человеке, который годился ему в отцы. У него было теплое горло и мягкая кожа. Никогда еще Джон так долго не держался за другого. Вот он, настоящий хаос — когда собственное тело становится полем сражения, разыгрывающимся у тебя внутри. Ибо нервы, связанные с его пальцами, испытывали ужас от этого тепла и этой мягкости. Они чувствовали, как стиснутое горло — урчит! Вибрирует тихонько и дрожит, исторгая из себя бесконечно жалобное урчание. Руки исполнились ужаса, но голова от страха перед унижением быть убитой, она, эта предательница, которая, ко всему прочему, была не в состоянии родить ни одной правильной мысли, делала вид, будто ничего не понимает.
Пистолет упал, ноги перестали переступать, мужчина больше не двигался. Рана на плече, яркая кровь.
Пистолет оказался не заряжен.
Не послышалось ли ему, что датчанин как будто что-то сказал напоследок, будто он сдается? Джон сидел и смотрел на горло убитого. Как он боялся этого унижения, умереть насильственной смертью. Но раздавить самому живой организм, по причине опоздания, только потому, что твой страх не успел вовремя улетучиться, — это похуже, чем просто потерять голову. Это гораздо оскорбительнее, такое бессилие, чем то унижение, которого он страшился. Теперь, поскольку он остался в живых и его голове пришлось впустить остальные мысли, битва внутри его тела продолжилась: руки, мускулы, нервы, все отказывалось подчиняться, и с этим мириться было нельзя.
— Я убил его, — сказал Джон. Он дрожал.
Достопочтенный господин с вытянутым черепом
посмотрел на него усталыми глазами. То, что он услышал, нисколько не тронуло его.
— Я все давил и давил и никак не мог остановиться, — продолжал Джон. — Я слишком медлительный для того, чтобы уметь вовремя остановиться.
— Довольно! — прервал его череп. — Битва закончена, — сказал он хриплым голосом.
Джон не мог унять дрожь, теперь его трясло, мускулы стягивались в разных местах в болезненные узлы, напрягались, собирая боль в цепь островов, будто хотели защитить изнутри его панцирем или, наоборот, поднатужившись, выдавить прямо сквозь кожу то чужое, что проникло в него.
— Битва закончена! — прокричал тот, что видел знамение. — Мы им показали!
Им пришлось расставлять новые бакены. Датчане сняли все опознавательные знаки, чтобы английские корабли сели на мель. Шлюпка медленно продвигалась вперед, по самому краешку песчаной косы, совсем рядом с разбомбленным, разворошенным Трекронером. Безучастно сидя на банке, Джон смотрел туда, где была суша. Медлительность смертельна, думал он. Она смертельна не только для него, но и для других, и это самое страшное. Он хотел бы стать частью берега, прибрежной скалой, действия которой всегда будут полностью совпадать с его настоящей скоростью. Кто-то вскрикнул, и он посмотрел вниз: в прозрачной воде, на дне, лежали сотни убитых, многие в синих кителях, кто-то с открытыми глазами, глядящими вверх. Страшно? Нет. Они лежали там, как будто это было так и надо.
Ему самому там было бы самое место. Кому нужны часы, которые остановились? Гораздо уместнее было бы сейчас лежать среди тех, что на дне, чем сидеть в этой лодке. Жаль только потраченных усилий. Как будто издалека он услышал какой-то приказ, но не понял его. Разве можно понять хоть что - нибудь после такой канонады. Он хотел попросить повторить приказ, но потом передумал. Ему показалось, что он все-таки понял. Он выпрямился, поднялся на ноги, закрыл глаза и начал падать, медленно и плавно, как лестница, приставленная к стене. Когда он уже оказался в воде, ему совершенно некстати подумалось: «Что скажет Нельсон?» Предательская голова и здесь не отступала от своего. Она работала медленно и не желала отпускать вопрос. В результате его вытащили из воды, а он даже не успел обдумать, как люди тонут.
Ночью он лежал на спине и пытался найти глазами Загалса. Он не нашел его. Дух детства, он исчез, погиб, утонул вместе со всеми. В тысячный раз Джон перебрал, словно четки, все паруса, от бом - кливера до косой бизани. Проговорил весь такелаж, стоячий и бегучий, от ватер-штаг-крага до стень-фордунов. Как заклинание повторил все реи от грота-рея до бовен-блинда-рея. Он проверил боевую готовность всего корабля, все стеньги, все палубы, каюты, чины и звания и убедился: корабль к бою готов, только вот он сам ни на что не годился, внутри царила полная неразбериха. Уверенность покинула его.
— Я полагаю, — сказал доктор Орм, когда они встретились снова, — все дело в том, что ты никак не можешь пережить его смерть.
Он старался говорить очень медленно. Джону понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное. У него задрожали губы. Если Джон Франклин плакал, то это продолжалось до определенного момента. Он рыдал до тех пор, пока не начинало свербить в носу и не появлялось странное покалывание в кончиках пальцев.
— Ты же любишь море, — продолжал доктор Орм, — А море совсем не обязательно связано с войной.
Джон перестал плакать, потому что задумался. Он внимательно изучал свой правый башмак. Взгляд, не отрываясь, методично обводил прямоугольник блестящей пряжки: верхняя сторона — слева направо, далее вниз, нижняя сторона — справа налево, затем вверх, и так не меньше десяти раз. Затем он перевел глаза на плоские туфли доктора Орма, на которых не было ни пряжек, ни застежек, только большой бант. Наконец он сказал:
— С войной я ошибся.
— Скоро заключат мир, — сказал доктор Орм. — Сражений больше не будет.
Часть вторая ДЖОН ФРАНКЛИН ОСВАИВАЕТ ПРОФЕССИЮ
Шерард Филипп Лаунд, десятилетний волонтер «Испытателя», писал письмо родным. «Ширнесс, 2-е Июля 1801 г. Дорогие родители! — Он облизывал губы и старался, чтобы не было ни единой кляксы. Скорее всего они попросят мистера Райт-Кодда, учителя, прочесть им письмо вслух. — Наше судно первый раз отправляется в такое далекое путешествие. Я рад, что меня взяли, да к тому же волонтером первого класса. Капитан считает, что мне совершенно не за что благодарить его, потому что это Джон Франклин похлопотал за меня. Я бы тоже хотел стать капитаном. Мы с Джоном были в Лондоне. После Копенгагена Джон стал еще более медлительным и все о чем-то думает. По ночам ему все время снятся покойники. Джон очень добрый. Он купил мне, к примеру, морской сундук, такой же как у него. Сундук очень поместительный, в нем много отделений, а сам он весь наподобие бочонка. Снизу у него идет такой кант, вроде подставки. А ручки сделаны из пеньки, ушками. Крышка обтянута парусиной. Сейчас я пишу на нем это письмо. — Он сдвинул лист немного повыше, облизал губы и обмакнул перо. Пока получилось всего лишь полстраницы. — А еще Джон подарил мне бритвенный прибор, сказал, что, когда мы доберемся до Терра-Австралии, он мне уже, наверное, понадобится. Он мне все рассказал про город. Люди тут на улицах не здороваются, потому что они и не знают друг друга. Тетушка Джона (Чепелл) тоже с нами, на корабле, она ведь теперь жена капитана. Он взял ее с собой, и она поедет с нами на другой край земли. Она спрашивает меня иногда, не надо ли мне чего. Я всем доволен, и мне все нравится. Сейчас мне пора уже заканчивать, потому что на корабле много дел».