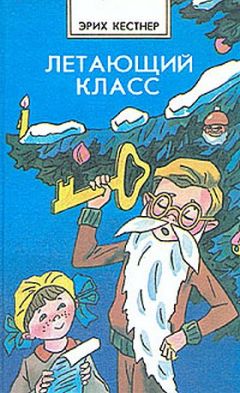Эрих Хакль - Две повести о любви
Когда же это было? Осенью с фронта были отозваны Интернациональные бригады. Это случилось незадолго до этого, значит, в сентябре, да, в сентябре тридцать восьмого.
Отец видел его в первый раз. Заявляется вдруг мужчина, говорит на ломаном испанском, по возрасту уже за тридцать, почти на десять лет старше сестры. Он не церемонясь выставил Руди за дверь.
Сестра рыдала. Она ведь была влюблена по уши. Но она была любимицей нашего отца, а к отцу, который помешан на своей дочке, не подступиться. Его слепая любовь началась с моего рождения. Марга на четырнадцать месяцев старше меня. Когда мать забеременела мною, ей пришлось отнять Маргу от груди. И тогда отец стал кормить ее из бутылочки, каждую ночь. Так он и полюбил ее и никак не хотел отдавать свое любимое чадо, тем более первому встречному незнакомцу свалившемуся как снег на голову. Вообще-то отец придерживался прогрессивных взглядов. Просто он был другого поколения. Вот, например: накануне гражданской войны, 17 июля 1936 года, я пришла домой не в девять, а в пять минут десятого. Отец залепил мне такую пощечину, что я пролетела через всю комнату. Но уже на следующий день он вдруг дает мне ключ от квартиры. Я, видите ли, должна была идти разыскивать брата на линии фронта, за баррикадами.
Мать не имела права голоса. Вообще никакого. Вот как было раньше. Мужчины пользовались свободой, как им заблагорассудится. А женщины… Ах, женщины! В девять дома, в двенадцать в постели.
В Альфамбре это было, севернее Теруэля, почти у линии фронта. На главной площади было «paseo»[21]. Там парни и девушки водили хороводы. Одни шли по кругу влево, другие — вправо. Встретившись, они что-то кричали друг другу. И все! Ни одна девушка не ходила в паре с парнем, и ни один парень не ходил в паре с девушкой. Всегда только по кругу в хороводе. Ты смотрел на них, на главной площади Альфамбры.
В Кастельсерасе это было, двадцать километров за линией фронта. Население с восторгом встретило Четвертый батальон, это была настоящая сенсация. Иностранцы! Интернационал! Русские! Снабжение было лучше некуда, хотя вся деревня была коллективизирована, тон там задавали анархисты. Деньги ничего не значили, но добровольцам-интербригадовцам было разрешено расплачиваться песетами. Когда они вошли в деревню, к тебе подошла одна женщина, к тебе и еще к одному парню, и спросила, не нужна ли вам квартира, она может предложить хорошую комнату. Вы пошли с ней. Они жили в доме возле церкви, она, ее муж и две дочери, которым было, вероятно, восемнадцать и двадцать лет. Для вас освободили комнату девушек, вы поставили свои вещи, и женщина сказала: «Вот и хорошо, своим присутствием вы окажете нам честь, мои дочери постараются сделать ваше пребывание как можно приятнее. Если желаете, они могут выходить с вами. Но ничего больше! А на случай, если у вас возникнут потребности, вот вам десять песет, вниз по улице есть бордель». Она так и сказала вам, в присутствии всей своей семьи, своих дочерей. Они нисколько не были шокированы, рассказывал ты. С девушками можно было говорить обо всем, о самых интимных вещах, при которых наши женщины краснеют и машут руками: «Что вы, что вы, об этом не говорят!» Разговаривать было можно, но только разговаривать, и ничего больше. Вот как тогда было в Кастельсерасе.
В Ситхесе, в сорока километрах от линии фронта, ты как-то вечером из чистого любопытства зашел в бордель. Там ты, с твоих слов, выпил чашку кофе, съел кусок торта и поговорил с девушками, они обо всем расспрашивали и прекрасно разбирались в политике, были развиты гораздо выше среднего уровня. Потом они спросили, ну что, компаньеро, пойдем в комнату, а ты махнул рукой, нет, спасибо, я слишком устал, не сегодня, и они не настаивали, вот как было в этом борделе в Ситхесе.
В излучине Эбро это было, непосредственно на линии фронта: Один солдат хлопает тебя по плечу, смотри, сержант, вон там бордель. И показывает на маленький глинобитный амбар, побеленный известью. Ты бежишь туда, а там стоят солдаты в очереди. Ты распахиваешь дверь, или это была решетка, или на ржавых петлях уже не висело никакой двери, и видишь немного соломы на полу, а на ней в каждом углу лежит по женщине, и на каждой мужчина со спущенными штанами. У двери, рассказывал ты, перед очередью стояли двое мужчин в штатском и собирали деньги. Ты приказал увести их, обоих сутенеров и четырех женщин, а солдат отправил на позиции. Ты еще гадал какое-то время, как им удалось беспрепятственно перейти Эбро. Других мыслей у тебя не было.
Многие из интербригадовцев подружились с испанками. Ситуация была своеобразная: у нас были контакты с женщинами, прежде всего с женской организацией в Барселоне, они как бы взяли над нами шефство. Помню, как-то раз нас привезли на фронт, а потом отозвали, и они приехали к нам в гости. Но девушки были абсолютно недоступные. Доступными были лишь некоторые женщины. Я имею в виду для секса. С девушками ты мог делать все, что угодно, только не спать с ними. Эта установка глубоко сидела в них. После войны, встречаясь в Париже с испанками, я удивлялся: все было совсем по-другому. А тогда у тебя был шанс сблизиться с девушкой, только если ты пообещаешь на ней жениться. И среди австрийцев были ребята, готовые жениться на девушках, с которыми они познакомились. Конкретные примеры сейчас уже не припомню. Для меня это было не так уж важно. Мы вели себя очень осторожно, следили за тем, чтобы не показать себя с дурной стороны в моральном смысле, словом, были сдержанны в общении с женщинами, если только они сами не проявляли инициативы. Но, как я уже сказал, некоторые были готовы установить прочную связь. А Фримель, говорили, вроде даже женился. Еще в Испании.
Я знаю, скажу я ему, ты, не задумываясь, женился бы тогда на Марге. Потому что ты любил ее, по-настоящему любил. Я могу это подтвердить, хотя мое старое глупое сердце все еще болит. Ты любил ее, но боялся сказать ей правду. Потому что сестра потеряла бы тогда к тебе всякий интерес. Ясно как божий день.
Дело в том, что Руди был женат, на австрийке. И у австрийки был от него ребенок Мальчик Все яснее ясного. Но в этом Руди сознался только гораздо позже. Он вообще мало о себе рассказывал. Насколько разговорчивым он был в других случаях, настолько молчаливым становился, когда речь заходила о его семье. Понятно, почему из него все нужно было клещами вытягивать. Ведь его отец был нацистом. Он донес на собственную жену, наверняка так оно и было, иначе я не могу себе объяснить, как его жена попала в концлагерь. Там она была убита. Почему — не знаю. Только знаю, что Руди однажды обронил, что ее убили.
Это абсолютный бред. Я не могу себе представить, чтобы мой отец распространял такую ложь.
Неправда, Руди, ты сам так сказал. Я слышала это собственными ушами. Или мне это рассказала моя сестра? Может, мне это приснилось?
Отношения между моим отцом и моим дедом всегда были очень хорошие. У них была масса общих дел, политических и, вероятно, личных. Бабушка чаще была дома. Был ли брак деда и бабушки счастливым, не берусь сказать. По моим ощущениям, скорее нет, но поручиться не могу. На политические мероприятия она никогда не ходила. Она умерла в 1936 году, когда отца посадили в лагерь для интернированных в Вёллерсдорфе. Из его писем можно заключить, что она страдала тяжелой болезнью. Может быть, у нее был рак Во всяком случае, она умерла естественной смертью задолго до вступления немцев, и дед не доносил на нее. Из его биографии, которую я раскопал в коробке из-под обуви, несомненно, следует, что он не симпатизировал ни черным итальянским мундирам, ни коричневым немецким рубашкам. Он всегда был на стороне левых. Если бы было иначе, мать наверняка проронила бы хоть словечко об этом.
И что сестра покончила с собой. Сестра Руди. В концлагере. Об этом он тоже говорил.
Свою тетю Штеффи я не помню. Я только знаю, что один раз она пыталась покончить с собой. Наглоталась таблеток или открыла газ, а мать сказала, что Штеффи — продувная бестия, она точно знает, что натворить, чтобы все ее пожалели. Но у тетки это было серьезно, потому что в марте тридцать восьмого она выбросилась из окна, и никого не было рядом, чтобы остановить ее. Существует одно письмо отца, все в той же коробке, в котором он пытается утешить деда. Тот, очевидно, очень страдал, потому что отец заклинает его не отчаиваться. А потом вспоминает об одном детском впечатлении, как осенним днем 1916 года его мать вместе со Штеффи и с ним стояла во Флоридсдорфе на мосту и неотрывно смотрела в воды Дуная. «Она наконец хотела избавиться от нашей ужасной нужды, — пишет он. — Долго, долго она боролась с собой, плакала, иногда бросая на нас отчаянные взгляды, которые я никогда не забуду! Но потом все же заставила себя продолжить борьбу, пока не закончилась вся эта жуткая нищета. Ты не имеешь права быть слабее, чем была тогда твоя жена, отец; ты обязан все преодолеть, оставаясь таким же стойким, как раньше! Для нас не может быть бегства из жизни!»