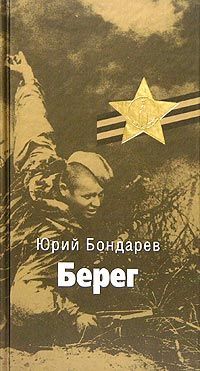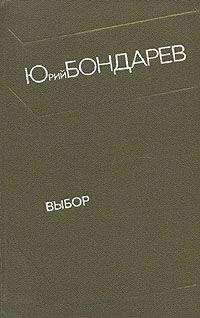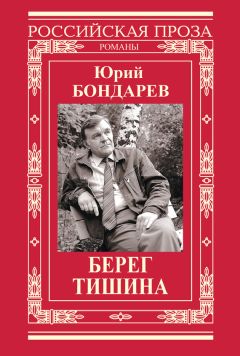Юрий Бондарев - Игра
Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев гирляндами, он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал, видел ее наклоненную гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, поворачивал к себе. А она, завороженно глядя ему в лицо, говорила растерянно:
— Это год лошади, поэтому тебе надо надеть коричневый костюм.
— Ах так, Оля? Обязательно коричневый? К несчастью, забыл свой гардероб из пятидесяти смокингов в Буэнос-Айресе в апартаментах отеля «Хилтон». Пустяки. Дам телеграмму.
— Какая забывчивость! Что же делать? Сбруя ведь коричневая, в общем-то. Знаешь, какой ритуал? Нужно, чтобы было надето на нас что-то кожаное. И чтобы висела на мужчине золотая цепочка. Нагни голову. Я надену тебе свою. — Она сняла с себя и застегнула на его шее крошечную цепочку, сказала озабоченно: — А мне дай твой коричневый ремень от брюк. Я подпояшусь. На столе должна стоять игрушечная лошадка. В блюдечке перед ней — овес и кусочек сахара. Еще что? Ровно в двенадцать шампанское пить нельзя. Да у нас и нет его. Как хорошо! Только коньяк или водку. Это, слава богу, у нас есть. За минуту до полуночи открыть дверь и выпустить старый год. Ровно в двенадцать войдет новый год. Закрыть дверь. И тогда надо выпить за него. Давай так встречать Новый год, по лунному календарю.
И он с великой охотой принял ритуал встречи Нового года по лунному календарю, не ведая до сих пор, есть ли год лошади в этом летосчислении, и Ольга, мягко светясь глазами, сидела за столом, подпоясанная мужским ремнем, у него же на шее висела Ольгина цепочка, сохранявшая, мнилось, ее телесное тепло, трогательная в женской невесомости на его грубом свитере, и стояла на середине стола игрушечная лошадка, и было блюдце с кусочком сахара. А ровно за минуту до полуночи он предложил Ольге: «Пошли встречать конягу, только возьми свою рюмку», — и вышел в пропитанную смолистостью стружек темноту лестницы, где еще не было проведено электричество (как и во всем доме), спустился с мансарды в тамбур, распахнул входную дверь на ветер, несущий наискось сизые космы, гул метели, окатившей их обоих глухим волчьим холодом непроглядной ночи. И почудилось, что они несутся в потемках по краю Вселенной, он и она, оторванные от земли, в соединенном счастливом одиночестве, как бывало в молодости, когда им не нужно было ничего, кроме старого, продавленного дивана в снимаемой за тридцать рублей комнатке в коммунальной квартире на Якиманке.
— Вот он идет, слышишь? Топает валенками между сугробами и крякает в бороду, — сказала Ольга, неумело шутя и вздрагивая. — Слышишь? Выпустил старый год и вошел. И холод внес с собой. Чувствуешь?
— И снегу натащил, старикашка.
Он захлопнул дверь (вьюгой успело нанести на пол белые холмики), обнял Ольгу, согревая, чокнулся с ее рюмкой и поцеловал в холодные, сладко-горькие от коньяка губы, сказал полусерьезно, скрывая захлестнувшее волнение:
— С Новым годом, моя любимая жена!
— Ты сказал так, будто у тебя гарем. Любимая жена и нелюбимая жена, — ответила она и, вздохнув, тоже легонько поцеловала его.
А он опять поразился тому, что она поцеловала его не согревающимися от холодного вина губами, так же наивно, неопытно, вызывая прежнюю неутоленность, как когда-то в целомудренной молодости после войны, не научившись тому, чему еще до встречи с ней научили его послевоенные знакомства, и, наслаждаясь ее неуменьем и неразвращенной чистотой, он сказал:
— Ты, чудесная моя женщина, опять целуешься, как галчонок, и все время закрываешь глаза и вздыхаешь.
В два часа ночи метель утихла, и, до глухоты окруженные безмолвием оцепеняющей стужи, они вышли в первозданную лесную пустыню, деревенскую, сугробную. Скрип снега под валенками был так пронзительно и остро звонок, что перехватывало дыхание. В оранжевых морозных кольцах светила луна, сыпалась изморозь, и Крымов видел в лунном дыму скольжение теней на свежем покрове снега, как отражение солнечных бликов на песчаном дне.
Ольга шла рядом, говорила о чем-то (он плохо слушал, думая о том, что никогда не переставал любить ее). Она иногда трогала его за рукав, взглядывая снизу с улыбкой, а он, немного оглушенный своей точно первой влюбленностью, глядел на ее приглашающее к спокойной радости лицо и тоже улыбался и ее взгляду, и этой новогодней ночи, и стреляющему треску деревьев в лесу, где изредка срывались текучей пылью снежные пласты с отяжеленных этажей елей.
Но Крымов помнил и солнечное серебристое утро первого дня Нового года, когда, проснувшись, увидел, что она, зажав ладонями виски, смотрела на него неподвижно и задумчиво, точно хотела запомнить его, перед тем как расстаться надолго.
— Ты что? — спросил он встревоженно и обнял ее, опять загораясь желанием.
— Я проснулась и увидела, как ты спишь. И подумала, что наши дети не похожи на тебя. И тут мне стало так страшно. Неужели через десять или пятнадцать лет мы больше не увидим друг друга? Как мне жаль и тебя, и детей, и всю нашу короткую жизнь на земле.
— Почему жаль, Оленька?
— Мне показалось, что мы с тобой только вдвоем на целом свете, но ты не любишь меня. Нет, мы все-таки одиноки. И ты, и я… — Ее тихие бархатные глаза дрогнули, и, пряча лицо, она повернула голову к стене, а он с разрывающей душу горечью стал целовать ее слабые, ускользающие губы и шепотом говорил, переводя дыхание:
— Ты напрасно, Оля. Наверно, мы с тобой были иногда счастливы.
Он говорил это, опасаясь, что Ольга возразит и разрушит его новую влюбленность, ставшую за несколько часов их оторванности от Москвы смыслом его близости к ней, влюбленность в посланную ему благосклонной судьбой святую женщину, ни разу не обманувшую в чувстве, хотя сам бывал в молодости грешен не однажды.
— Какая несправедливость, — сказала она шепотом и прижалась, вдавилась носом ему в грудь. — Я не хочу с тобой расставаться.
— Я знаю, тебя пугают сны, — проговорил он. — Забудь о том, что привиделось тебе.
Спускаясь по лестнице из мансарды, выйдя в теплынь сада, на посыпанную речным песком дорожку, исполосованную тенями, Крымов опять среди солнценосного июльского дня как наяву увидел ту пустынную зимнюю ночь, лунные сугробы и морозное утро в комнате Ольги с их счастливым одиночеством.
— Тебе помочь найти маменцию? — крикнула Таня издали, отрываясь от книги, и заболтала босыми ногами. — Мама на Солнечной поляне. Проводить?
— Не надо, дочь. Я найду.
«Да я и не переставал любить ее, — подумал он, направляясь по тропинке в конец сада, к калитке в лес. — А ей как будто не хватает моей искренности».
Он нашел Ольгу под березами на краю поляны. Она стояла перед утопавшим в траве мольбертом и чуть устало отклонялась от холста, приложив обратную сторону ладони ко лбу. И все было родное в ней: и этот мягкий жест усталости после долгой работы, и узел черных волос, и линия спины и плеч, еще молодых, девически крепких, видимо, благодаря занятиям гимнастикой и тибетской йогой, чему она отдавала ежедневно не меньше часа, поверив в этот восточный «секрет» здоровья и вечной молодости. Она увидела его, опустила кисть, молча повернулась и так в ожидании стояла до тех пор, пока он не приблизился.
— Здравствуй, ненаглядная жена моя…
«Откуда появилась во мне пошлость? Какая сила управляет мной?»
И он обнял ее так стесненно, неловко, словно не имел права на объятие и поэтому преодолевал, перебарывал запрет и недозволенное.
— Здравствуй, ненаглядный муж мой. — Она подставила ему не губы, а щеку, взглянула с насмешливым интересом из-под выгнутых бровей. — Разве я столб или дерево? Ты не рассчитываешь свою силу, Вячеслав Андреевич.
От ее сдержанности исходил осенний холодок, и он догадался о возможных причинах этого неприятного заморозка, но все же нашел мужество пошутить, смягчая ее холодноватость:
— Вероятно, Оля, за неделю, пока не видел тебя, я разучился обращаться с драгоценными вещами, старый осел.
«Опять пошлость! Что это я горожу? В самом деле — непроходимый глупец!»
— Тогда отпусти меня, свою драгоценную вещь.
Ее глаза заблестели тою же спокойной недоверчивостью, она осторожно высвободилась, он сказал виновато:
— Я соскучился, если ты можешь хоть капельку поверить…
— Ты приехал вовремя. Мы сейчас идем обедать. Помоги мне собрать мольберт.
Она не попросила его по обыкновению «покоситься на этюды», на еще влажные, непросохшие акварели («Что ты скажешь — ничего это тебе?»), которые он оценивал довольно-таки снисходительно, ибо считал чистый пейзаж лишь зеркальным отражением изменчивой действительности, предпочитая ему портрет природы — пейзаж философский, с разумной, естественной красотой, противоречащей нещадно разрушительной человеческой силе, этому выражению современного урбанистического мира, порочного и заманчивого для многих, любимого бывшими сельскими людьми, составляющими большинство теперешних горожан, и вместе ненавидимого ими. Ольга не сердилась, не возражала, а Крымов обычно заканчивал свою наполовину шутливую критическую проповедь добродушно («Ты у меня незаурядный пейзажист, хотя и архитектор») и целовал ее в прохладные губы, по-младенчески отвечающие и не отвечающие ему.