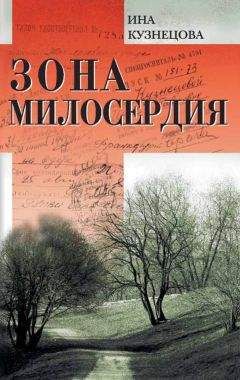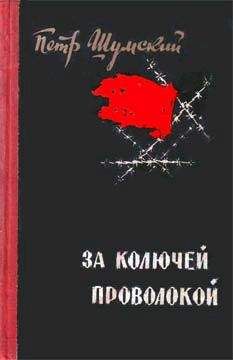Сергей Довлатов - Зона. Записки надзирателя
Катя засмеялась.
— Всех благ, — произнес капитан, — не сердитесь. Прощайте…
— Вас интересует, что я думаю? Хотите меня выслушать?
— Интересует, — сказал капитан, — хочу.
— Я вам очень благодарна, Павел Романович. Я посоветуюсь… и уеду с вами…
Он шагнул к ней. Губы у девушки были теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем.
— Неужели я вам понравился? — спросил Егоров.
— Я впервые почувствовала себя маленькой и беспомощной. А значит, вы сильный.
— Тренируемся понемногу, — сказал капитан.
— До чего же вы простой и славный!
— У меня есть более ценное достоинство, — объявил капитан, — я неплохо зарабатываю. Всякие там надбавки и прочее. Зря вы смеетесь. При социализме это важно. А коммунизм все еще проблематичен… Короче, вам, если что, солидная пенсия будет.
— Как это — если что?
— Ну, там, пришьют меня зеки. Или вохра пьяная что-нибудь замочит… Мало ли… Офицеров все ненавидят, и солдаты, и зеки…
— За что?
— Работа такая. Случается и поприжать человека..
— А этот? В зеленой кофте? Который вам ножик показал?
— Не помню… Вроде бы я его приморил на лесоповале…
— Ужас!
Они стояли в зеленой тьме под ветками. Катя сказала, глядя на яркие окна пансионата:
— Мне пора. Тетка, если все узнает, лопнет от злости.
— Я думаю, — сказал капитан, — что это будет зрелище не из приятных…
Через несколько минут он шел по той же аллее — один. Он шел мимо неясно белеющих стен. Мимо дрожащих огней. Под шорохом темных веток.
— Который час? — спросил у него запоздалый прохожий.
— Довольно поздно, — ответил капитан.
Он зашагал дальше, фальшиво насвистывая старый мотив, румбу или что-то в этом плане…
3 мая 1982 года. БостонНедавно я перечитывал куски из вашей «Метаполитики». Там хорошо написано об издержках свободы. О том, какой ценой свобода достается. О свободе как постоянной цели, но и тяжком бремени…
Посмотрите, что делается в эмиграции. Брайтонский нэп — в разгаре. Полно хулиганья. (Раньше я был убежден, что средний тип еврея — профессор Эйхенбаум.)
Недавно там открыли публичный дом. Четыре барышни — русские и одна филиппинка…
Налоговое ведомство обманываем. В конкурентов постреливаем. В газетах печатаем бог знает что…
Бывшие кинооператоры торгуют оружием. Бывшие диссиденты становятся чуть ли не прокурорами. Бывшие прокуроры — диссидентами…
Хозяева ресторанов сидят на велфере и даже получают фудстемпы. Автомобильные права можно купить за сотню. Ученую степень — за двести пятьдесят…
Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана…
В этой связи я припоминаю одну невероятную лагерную историю. Заключенный Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал на особом режиме последние сутки. Назавтра его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.
Я сопровождал его в головной поселок. Мы ехали в автозаке с железным кузовом. Чичеванов, согласно инструкции, помещался в тесной металлической камере. В дверях ее было проделано отверстие. Заключенные называют это приспособление:
«Я его вижу, а он меня — нет».
Я, согласно той же инструкции, расположился в кузове у борта. В дороге мне показалось нелепым так бдительно охранять Чичеванова. Ведь ему оставалось сидеть несколько часов.
Я выпустил его из камеры. Мало того — затеял с ним приятельскую беседу.
Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета. (Как вы догадываетесь — моего собственного пистолета.) Затем он выпрыгнул на ходу и бежал.
Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года…
Эта история буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным и даже трансцендентным явлением. Но капитан Прищепа, старый лагерный офицер, мне все разъяснил. Он сказал:
— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. Тюрьма перестроила его кровообращение, его дыхательный и вестибулярный аппарат. За воротами тюрьмы ему было нечего делать. Он дико боялся свободы и задохнулся, как рыба…
Нечто подобное испытываем мы, российские эмигранты.
Десятилетиями мы жили в условиях тотальной несвободы. Мы были сплющены наподобие камбалы тягчайшим грузом всяческих запретов. И вдруг нас подхватил разрывающий легкие ураган свободы.
И мы отправились взламывать продуктовый ларь…
Кажется, я отвлекся.
Следующие два фрагмента имеют отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров — тупое и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным. Налицо метаморфозы творческого процесса…
Раньше это было что-то вроде повести. Но Дрейцер переслал мне лишь разрозненные страницы. Я попытался их укомплектовать. Создал киномонтаж в традициях господина Дос-Пассоса. Кстати, в одной старой рецензии меня назвали его эпигоном…
Катя повернула выключатель, окна стали темными.
Было очень рано. В прихожей гулко тикали ходики.
Катя сунула ноги в остывшие домашние чуни. Вышла на кухню. Вернулась. Постояла немного, кутаясь в синий байковый халатик. Затем оторвала листок календаря, стала читать внимательно и медленно, так, словно от этого зависело многое:
«Двадцать восьмое февраля. Четверг. Пятьсот шестьдесят лет назад родился Абдуррахман Джами. Имя этого выдающегося деятеля персидской культуры…»
— Егоров, проснись, — сказала Катя, — вода замерзла.
Капитан беспокойно заворочался во сне.
— Павел, в умывальнике — лед…
— Нормально, — сказал капитан, — вполне нормально… При нагревании образуется лед… А при охлаждении… Не так… При охлаждении — лед. А при нагревании — дым… Третий закон Ньютона. В чем я отнюдь не уверен…
— Снегу намело до форточки. Павел, не спи…
— Осадки, — реагировал Егоров, — ты лучше послушай, какой я сон видел. Как будто Ворошилов подарил мне саблю. И этой саблей я щекочу майора Ковбу…
— Павел, не кривляйся.
Капитан быстро поднялся, выкатил из угла холодные черные гантели.
При этом он сказал:
— Век тренируйся, а кита не перепьешь… И все равно не будешь таким сильным, как горилла…
— Павел!
— Что такое?! Что случилось?
Егоров подошел к ней и хотел обнять.
Катя вырвалась и громко заплакала. Она вздрагивала и кривила рот.
— А плакать зачем? — тихо спросил Егоров. — Плакать не обязательно. Тем более — рыдать…
Тогда Катя закрыла лицо руками и сказала медленно-медленно. Так, чтобы не помешали слезы:
— Я больше не могу.
Помрачнев, капитан достал сигарету. Молча закурил.
За окнами бродило серое морозное утро. Голубоватые длинные тени лежали на снегу.
Егоров медленно оделся, накинул ватник, захватил топор. Снег взвизгивал под его лыжными ботинками.
«Ведь где-то есть иная жизнь, — думала Катя, — совсем иная жизнь… Там земляника, костры и песни… И лабиринты тропинок, пересеченных корнями сосен… И реки, и люди, ожидающие переправы… Где-то есть серьезные белые книги. Вечно ускользающая музыка Баха… Шорох автомобильных колес… А здесь — лай собак. Пилорама гудит с утра до вечера. А теперь еще и лед в умывальнике…»
Катя подышала на стекло. Егоров ставил чурбан. Некоторое время приглядывался к сучкам. Потом коротко замахивался и резко опускал топор, слегка наклонив его…
По радио звучал «Турецкий марш». Катя представила себе турецкое войско. Как они бредут по глубокому снегу в тяжелых чалмах. Пробираются от АХЧ к инструменталке. Их ятаганы примерзли к ножнам, чалмы обледенели…
«Боже, — подумала Катя, — я теряю рассудок!»
Егоров вернулся с охапкою дров. Обрушил их возле печки. Затем вынул из кармана тюремный месырь с фиксатором, отнятый при шмоне. Стал щепать лучину…
«Раньше я любила зиму, — думала Катя, — а теперь ненавижу. Ненавижу мороз по утрам и темные вечера. Ненавижу лай собак, заборы, колючую проволоку. Ненавижу сапоги, телогрейки… и лед в умывальнике…»
— Молчи, — сказала она, — я ненавижу твою правоту!
— Как это? — не понял Егоров, затем сказал: — Ну, хочешь, привезу из Вожаеля яблок, шампанского, позовем Женьку Борташевича с Ларисой…
— Твой Борташевич стрижет за обедом ногти.
— Тогда Вахтанга Кекелидзе. У него папаша — князь.
— Кекелидзе — пошляк!
— То есть?
— Ты не знаешь.
— Почему не знаю, — сказал капитан, — я знаю. Я знаю, что он к тебе цеплялся. У грузин такой порядок. Парень холостой… Неприятно, конечно… Можно и в рыло заехать…
— Женщине это необходимо.