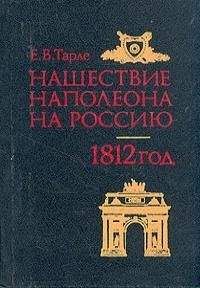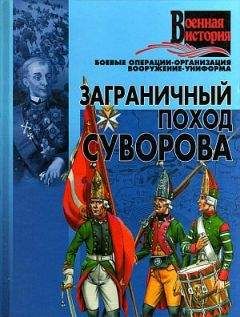Триумф и трагедия императора - Тарле Евгений Викторович
Наполеон узнал обо всех происшествиях на северном фланге уже будучи в Витебске. Он был всем этим очень раздражен и недоволен. Он узнал, конечно, что никакой настоящей победы, о которой трубили в Петербурге и в Англии, Витгенштейн над маршалом Удино не одержал. Но не в этом было дело. Император должен был примириться с тем, что и никакой существенной помощи оба его действующие на севере маршала, Удино и Макдональд, ему уже не окажут и что серьезной диверсии на Петербург русские могут не бояться.
В свою очередь и в Петербурге стало вполне ясно, что решающие действия разыграются не на петербургских, а на смоленских путях и, может быть, на московских.
Барклай и Багратион, теснимые неприятелем, отступали на Витебск и Могилев при страшной жаре, полуголодные, по целым дням не видя свежей воды. Отступление обеих русских армий было очень тяжелым. Был иной раз плох офицерский состав. Храбрости среди офицеров было сколько угодно, но иногда неосторожность, небрежность, неуменье найтись в трудную минуту мешали и Барклаю и Багратиону, не всегда давали им возможность быть твердо уверенными в том, что их приказы будут выполнены.
Интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Воровство царило неописуемое. Вот вступает в Поречье отходящая от французов армия Барклая (дело было в конце июля). Обнаруживается, что нечем накормить лошадей. А где же несколько тысяч четвертей овса, где 64 тысячи пудов сена, которые должны находиться, по провиантским бумагам, в магазинах Поречья и за которые казна уже уплатила все деньги? Оказывается, как раз только что провиантский комиссионер распорядился все это сжечь, полагая, по своим стратегическим соображениям, что Наполеон может захватить Поречье. Ермолову это показалось подозрительным, он потребовал справки: когда велено было закупить и свезти весь этот овес и все сено в магазины Поречья? Оказалось, что всего две недели тому назад. А так как перевозочных средств было очень мало (почти все подводы были уже взяты армией), то в такой короткий срок свезти все было никак нельзя. Наглая ложь комиссионера выяснилась вполне: он, конечно, и не думал ничего покупать и свозить, а просто сжег пустые магазины и этим аккуратно свел баланс в отчетной ведомости. Ермолов, обнаружив это, сказал Барклаю, что «за столь наглое грабительство достойно бы, вместе с магазином, сжечь самого комиссионера»[84]. Но к этой мере не прибегли. Да и было бы бесполезно: нельзя же было сжечь все провиантское ведомство в полном личном составе. И поплелись дальше некормленые лошади, таща артиллерию и голодных всадников.
Очень плоха была и медицинская часть. Врачей было ничтожное количество, да и те были плохи. Организация помощи раненым решительно никуда не годилась.
«Большая часть раненых офицеров и солдат остается после первой перевязки без подания дальнейшей помощи»[85], констатирует главный медицинский инспектор русской армии Вилье уже в первые дни войны. Потом дело пошло не лучше, а еще гораздо хуже. Раненные около Витебска в начале июля только 7 августа прибывают в Вязьму без всякой даже самой примитивной медицинской помощи: «Многие из них от самого Витебска привезены не перевязанные, ибо при них было только двое лекарей, а в лекарствах и перевязках — совершенный недостаток, многих черви едят уже заживо»[86], - так пишет министр внутренних дел Козодавлев Александру 19 (7) августа, т. е., значит, еще до прибытия новых тысяч и тысяч, раненных при обороне и при оставлении Смоленска.
Так отступали отделенные друг от друга обе небольшие русские армии, преследуемые наседающими французами.
Наполеон гнался за победой, за новым Аустерлицем, которого он не нашел на Немане, который ускользнул от него в Вильне.
5
Всего только спустя час после ухода русских войск из Вильны туда явился Наполеон с авангардом. Мост, зажженный ушедшими русскими, еще горел. Наполеон сел на складной стул возле горевшего моста и стал расспрашивать. Он продолжал эти расспросы и во дворце, откуда незадолго выехал Александр и где теперь поселился он сам. Чаще всего он спрашивал, почему русские не дали ему сражения и где они предполагают остановиться. Когда один из опрошенных (редактор «Курьера литовского») сказал, что у русских армия в 300 тысяч человек, то Наполеон сейчас же возразил, что это ложь, и протянул ему разорванный в клочки, но найденный и склеенный французами рапорт начальника штаба Барклая де Толли самому Барклаю; из этого документа явствовало, что продовольствия для всей армии Барклая отпускалось на 92 тысячи человек[87]. Даже предполагая, что у Багратиона не меньше сил, Наполеон мог вывести заключение, что у русских для непосредственной борьбы с ним есть не более 185 тысяч человек. На самом деле, как мы видели, было еще меньше. А он не мог не знать, что у Багратиона меньше войск, чем у Барклая, потому что при армии Барклая — сам царь и армия Барклая должна защищать Дрисский лагерь и Петербургскую дорогу. Но раньше чем двинуться против русских, Наполеон должен был заняться в Вильне рядом неотложных дел.
«Мои друг, я в Вильне и очень занят. Мои дела идут хорошо, неприятель был очень хорошо обманут… Вильна — очень хороший город с 40 тысячами жителей. Я поселился в довольно хорошем доме, где немного дней тому назад жил император Александр, очень тогда далекий от мысли, что я так скоро войду сюда»[88], - так писал Наполеон императрице Марии-Луизе вскоре после вступления в город.
В Вильне он пробыл с 28 июня по 16 июля 1812 г. Польское дворянство чествовало его, как только могло. Его называли спасителем и отцом польского отечества, воскресителем Польши из мертвых и т. д. И далеко не сразу Наполеон мог всецело отдаться военным неотложным делам.
Жомини считает величайшей ошибкой, какую Наполеон совершил за всю свою жизнь, то обстоятельство, что он так долго просидел в Вильне. По мнению этого военного историка, который проделал войну 1812 г. в качестве бригадного генерала в наполеоновской армии, если бы Наполеон, не задерживаясь в Вильне, пошел прямо к Минску, он не дал бы ускользнуть Багратиону, настиг бы и уничтожил его.
Но очень уж много разнообразнейших забот обступило Наполеона со всех сторон. Нужно было устраивать Литву, организовывать ее гражданское правление; нужно было вести тонкую, сложную политику, не давая никаких точных обещаний полякам (насчет присоединения Литвы к Польше), чтобы не затруднять этим всегда возможного мира с царем; нужно было зорко следить за обостряющимся положением в Испании; нужно было, ничего не давая самой Литве, организовать планомерное выкачивание из этой страны хлеба, сена, овса и новобранцев.
«Я люблю поляков на поле битвы, — это храбрый народ; но что касается их законодательных собраний, их „свободного вето“, их сеймов, когда они заседали верхом на лошади, с саблей в руках, то этого я не хочу», — заявил Наполеон графу Нарбонну еще перед переходом через Неман.
Он так и поступал с поляками в Вильне: ровно никаких гарантий им не давал, держал очень двусмысленные речи насчет будущего «воскрешения» Польши и присоединения к ней Литвы, но очень нетерпеливо и надменно требовал провианта и людей.
Все эти заботы бледнели перед другой тревогой, которой еще не было в душе Наполеона, когда он переходил через Неман, но которая, появившись в Вильне, уже не покидала императора в продолжение всей войны.
В первые же дни июля Наполеон стал отдавать себе отчет в тяжелых сторонах континентального климата при русском бездорожье; маршалы писали ему об этом в Вильну. «У нас тут была большая жара, теперь же очень сильные дожди, которые создают нам затруднения и приносят нам большой вред»[89], - пишет император жене 2 июля.
Болезни угрожающе косили ряды армии уже с первых дней похода. В виде примера достаточно сказать, что при выступлении Наполеона из Вильны даже из немногих отборных полков, стоявших в самом городе, 3 тысячи больных и раненых солдат великой армии были оставлены в Вильне, и в самом конце июля Наполеон узнал, что они находятся в совсем отчаянном положении, что у них нет даже соломы, на которую можно было бы лечь, и что в складах не осталось никаких запасов[90]. Он написал суровый приказ в Вильну герцогу Бассано. Конечно, ни малейших реальных результатов от этого приказа не получилось.