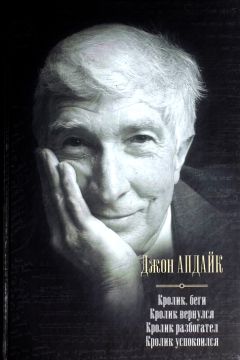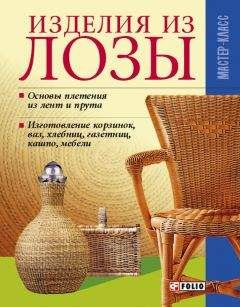Джон Апдайк - Кролик успокоился
Кролик укладывается спать, как есть, не сменив нижнего белья, и старается сосредоточиться на том, где он и кто он. Это последняя ночь его пребывания в нигде. Уже завтра жизнь снова его настигнет. В телефоне Дженис, за стеной Голды. Он не чувствует в себе той легкости, какой ожидал, пускаясь в бега из Бруэра. Ты все тот же ты. Штаты все те же Штаты, намертво сцепленные кредитными карточками и индейскими географическими названиями. Тело Гарри наливается тяжестью на гостиничной сдвоенной кровати. Затерянный в паутине тонких линий на карте дорог, он засыпает и спит, словно в материнской утробе — это ведь тоже временный рай.
Утро. От вчерашнего дождя одни воспоминания в виде лужиц на распластавшемся под ударами беспощадных солнечных лучей асфальте. Воскресенье. Он решает напоследок побаловать себя «французскими» гренками и сосисочками, а уж с завтрашнего утра снова сесть на овсяные отруби. У Дженис нет привычки вычищать кухонные шкафы перед отъездом. В каком-то смысле это даже удобно, если вы ничего не имеете против муравьев и тараканов. Он все принюхивается и приглядывается к яичной корочке на гренке и кленовому сиропу — и то и другое не внушает ему доверия. Какие гренки готовила ему мама на завтрак перед воскресной школой, таких уж теперь нигде не поешь: плоские, с золотистой корочкой треугольники хлеба, сироп не какой-нибудь, а «От тетушки Джемаймы» из банки, которая по форме и раскраске была словно бревенчатая хижина с трубой-носиком. Убирая чемодан в багажник, он в который раз поражается, до чего странное впечатление производят габаритные фонари «селики»: если смотреть сзади, кажется, что у машины раскосые «глаза».
Меньше чем через час он переезжает реку Сент-Мэрис. Дорожный щит приглашает его ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ФЛОРИДУ, и в эфир проникает реклама медицинских страховых полисов «Голубого креста», таких и сяких клеющих кремов для зубных протезов, пульмонологических и прочих клиник. Обочины делаются песчаными, поток машин на дороге густеет, приобретает нарядный лоск. Внезапно впереди проступает Джексонвилл, волшебная страна Оз с голубовато-зелеными небоскребами, город-мечта в конце соснового туннеля; поблескивающие стеклянные кубы теснятся, словно уступы, вокруг главной вершины — баптистской больницы. Вы едете по высокой дуге моста через реку Сент-Джонс, и Джексонвилл сверкает то под таким углом, то под эдаким, будто брильянт, который, любуясь, вертишь в руке, а ваше дело платить сколько положено за проезд и смотреть в оба, чтобы не укатить случайно по автостраде в Грин-Коув-Спрингс или Таллахасси. Федеральная 95-я здесь всего-навсего одна из множества скоростных магистралей. Легковые машины тут широкие и толстые, а грузовые везут не штабели окоренных сосновых бревен, а рулоны свежего дерна. Кругом, обступая его, как диковинные сухопутные крейсеры, важно плывут белые фургоны и трейлеры всех видов и мастей, «Виннебаго» и «Звездоходы», «Следопыты» и «Дельфины», семейные дома на колесах: глава семейства за штурвалом, окно открыто, локоть в окне, хозяйка в доме у него за спиной — постель застилает. Из всех сорока восьми штатов тянутся во Флориду эти караваны, встречаются даже номера с символами Колорадо (зеленая гора) и Мэна (жестикулирующий красными клешнями омар). С удивлением замечает он кое у кого и новый смазанно-трехцветный флоридский значок, не иначе как в память о гибели «Челленджера»[179], среди все еще преобладающих старых, в виде зеленой, с очертаниями Флориды, кляксы в центре номерной пластины — как грязный шлепок на галстуке. Да, с «Челленджером» осрамились, самое позорное событие восьмидесятых: это ж надо, запустить в космос женщин, несчастную школьную учительницу из Нью-Хэмпшира и еще одну, молоденькую евреечку с пушистыми волосами, не говоря о мужчинах — кроме белых, там был один черный и один желтый, ну просто расовый срез Америки в лучших голливудских традициях, — и все для чего? Чтобы уже через минуту они разлетелись на кусочки и мы увидели это в своих телевизорах! А теперь исследователи доисследовались до предположения, что, возможно, их смерть не была мгновенной и минуты две или три они летели вниз, навстречу воде, в полном сознании. Гарри спускается все ниже, южнее, все глубже внедряется во Флориду, с радостью возвращаясь к пальмам, и к белым крышам, и к ощущению тропической истонченности; вот и облака здесь голубые — на сером — на белом — на голубом, словно великий небесный живописец предпочитает работать здесь материалами легкими, светлыми.
По 95-й вы двигаетесь параллельно восточному берегу вплоть до 4-й, а там уходите по диагонали на юго-запад, прямиком через Диснейуорлд, куда так мечтала попасть бедненькая его Джуди, в следующий их приезд надо во что бы то ни стало свозить ее туда. Если слушать, что говорят мнящие себя бывалыми путешественниками всезнайки (к каковым он всегда причислял Эда Зильберштейна, еще до того, как его сынок попробовал подкатиться к Пру), так надо пилить и пилить по 4-й и сворачивать только на 75-ю, немного удлиняя путь, зато якобы выигрывая если не по спидометру, так по секундомеру, или на худой конец жать по 17-й на Порт-Шарлотт, но лично он все равно любит ездить строго на юг по 27-й, через дышащее жаром плоское брюхо штата, через Хейнс-Сити и Лейк-Уэльс, в пустынные земли к западу от семинольской резервации и озера Окичоби, и уж оттуда по шоссе 80 прямиком в Делеон.
Что во Флориде проще простого, так это настроить автомобильный приемник на одну из станций, передающих старые мелодии. Их тут пруд пруди. Какова публика, таковы и мелодии. В этих песнях вся ваша жизнь, как любят говорить некоторые ведущие, и вот оно, пошло-поехало, Пэтти Пейдж сперва просит-умоляет не отпускать ее, потом задиристо поет что-то с латиноамериканским окрасом и припевом «ай-яй-яй» и ей хором подвывают кабальерос и напоследок — «Всю жизнь ждала тебя и только для тебя хранила я любовь»; ее сменяет Тони Беннет, или еще кто-то в том же роде из уныло мычащих итальянцев, с песней про то, как много у него скопилось любви; а за ним Гоги Грант — «Вольный ветер»: он уже напрочь о ней забыл, о Гоги Грант, и это та редкая песня, которая не включает у него в мозгу ни единой клеточки памяти. Между тем пейзаж за окном, за пределами монотонного шипения кондиционера, становится все больше под стать развеселым ритмам салунной музычки хонки-тонк: Активный отдых только для взрослых! — и вот одна, другая, третья машина обгоняет его и у каждой к заднему стеклу на лапках-присосках прикреплен оранжевый кот Гарфилд. «Зачем с другими ходишь ты, ну кто же знает…» — поет «Своенравную розу» Нат «Кинг» Коул, под конец, словно перышком проводя по щеке: «И почему меня к тебе так тянет? Никто не знает». Ты так и видишь его понимающую медленную улыбку. Потом «Тцена, тцена» — эту песню Гарри тоже не слышал уже целую вечность, нынче национально-окрашенная музыка не в моде, и еще песенка про папу, национальная уже не по музыке, а по содержанию. А дальше Кей Старр из кожи вон лезет со своим «Колесом удачи», икает, голос форсирует: «Прррра-шуу — сейчасссс!» А вот это другое дело, детская считалочка в джазовом переложении Эллы Фицджеральд «Билетики, ответики», с ней у него связаны кое-какие воспоминания, под нее он шагал в начальную школу в паре с Лотти Бингамен и тайно вздыхал по Маргарет Шелкопф; ага, Пресли запел, «Люби меня нежно»… нет, режьте его на куски — пока Пресли не разжирел и не опустился и не добил себя под конец наркотиками, голос у него был каких мало, настоящий, красивый голос, с полузадушенным Синатрой не сравнить; Рэй Чарльз включился, тоже голос так голос: «Не перестать любить тебя, мечтать о прошлых дняаах», да-да, медленно тает звук, и это характерное для незрячих покачивание головой; и следом Конни Фрэнсис с песней из фильма с ее участием «Куда подевались ребята», тоже, между прочим, голос такой, что мурашки по спине бегут… Ладно, но все же, чья, интересно, жизнь в этих песнях? То была романтическая «пляжная» эпоха — пора надежд, задор, рок-н-ролл, девочки, машины, словом, вечный праздник, — ну а он уже вовсю занимался другими делами: женился, разбегался, воссоединялся, вкалывал в типографии, какие ему там были девочки, какой рок-н-ролл! Вот Ронни Гаррисон и Рут не зевали, устроили себе романтический уик-энд на пляже на Джерсийском побережье — никак ему по этому поводу не успокоиться.
Спустя какое-то время станция затухает и, пока он ищет другую, к нему успевает прорваться трансляция церковной службы и голос проповедника-евангелиста, который надрывно кричит: «Иисус знает! Иисус заглядывает к тебе в сердце! Иисус видит смерть в твоем сердце!» — и Гарри поскорей уходит с этой волны и попадает, правда, с опозданием, так что не успевает насладиться всеми всхлипами, на «Плач» Джонни Рэя: «Если милая напишет: «Позабудь…» Это было незадолго до его отъезда на армейскую службу, незадолго до неминуемой разлуки с Мэри-Энн, тогда он еще не знал, что расстанутся они навсегда, и они с ней ужасно спорили из-за Джонни Рэя: Кролик называл его «истеричкой», нормальный мужик, по его мнению, не стал бы так нюни распускать и петь так не стал бы, и только потом, уже в Техасе, он с опозданием понял, что песня-то была просто создана для него — это ему милая написала «позабудь». Следующим номером идет, вернее прогуливается, Дин Мартин с песенкой «Вот что такое аморе[180]»: это Кролик уже отслужил и закрутил роман с Дженис, тихоней и скромницей, она тогда тоже работала у Кролла в универмаге, продавала орешки — ее миниатюрное крепенькое тело, безотказно действующий на него изумленный взгляд ее темных глаз, да, он точно помнит, что все это было тогда, потому что он в шутку говорил ей: «Вот что такое аморе», когда выпускал ее из объятий в комнате какой-то ее подруги, которая время от времени позволяла им там встречаться, с видом на серые газгольдеры возле реки… «Кто один» — это уже выводит рулады покойник Рой Орбинсон. «Прощай, моя милая! Сердце, прощай!» — до чего удивительный голос, так и взмывает ввысь, кажется, еще чуть-чуть и разобьется, как хрустальный бокал, впрочем, в каком-то смысле так и случилось; в компанию почтенного возраста «старичков» он попал, вероятно, благодаря факту своей смерти, догадывается Кролик.