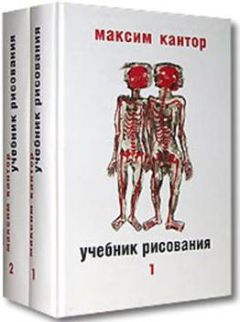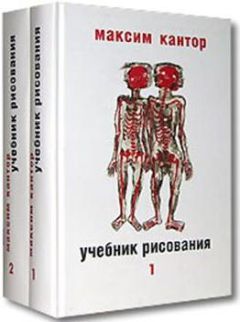М.К.Кантор - Учебник рисования, том. 1
Значение дизайна легко проиллюстрировать следующим примером: собираясь на встречу с Михаилом Дупелем, известный бизнесмен Балабос неожиданно получил информацию о том, что Михаил Зиновьевич приготовился к встрече, облачившись в костюм от Бриони. Как, ахнул Балабос, от Бриони? Да уверены ли вы, так спросил он своих информаторов, что от Бриони именно? Да, гласил ответ, и информация подтвердилась. Тут было над чем призадуматься. Обыкновенно Дупель щеголял в костюмах от Армани, то есть в костюмах деловых, но достаточно свободных. Надеть же костюм от Бриони, чопорный, напористый, бескомпромиссный костюм непосредственно перед встречей, на которой надо бы подписать важный финансовый договор, - да, это было неспроста. Балабос за голову схватился. И чем ответить на такое? Да и надо ли отвечать? Прийти на встречу в продукции Эмерджелио Зенья - значит пойти на открытый конфликт. Пойти на компромисс и одеться в изделия Босс - но это означает заведомый проигрыш. Балабос встречу отменил, перенес на завтрашний день, а назавтра Дупель уже вышел в свет в обычном своем Армани, и проект договора был легко утвержден. Нужны ли другие доказательства?
VIII
И всякий прогрессивный исследователь истории и культуры, удобным образом расположив факты и составив убедительную картину российского прошлого, недоумевал: какие же еще нужны доказательства того, что стране требуется хороший стилист, который сумел бы организовать ее несуразную природу в соответствии с приличными образцами? Вот свидетельство знатока стилей, французского специалиста де Кюстина, а вот мнение признанного дизайнера Киссенджера, а вот и отечественный декоратор Столыпин оставил нам свои судьбоносные рецепты. Только слепой к красоте и глухой к доводам разума может игнорировать услуги дизайнера.
Вскоре после уже описанного диспута в «Открытом обществе», между Борисом Кирилловичем Кузиным и Сергеем Татарниковым состоялся следующий диалог.
- Вы негативно относитесь к моим текстам, - сказал Кузин. - Замечаю в вас недоброжелательность. Вы, надеюсь, не славянофил? Не примыкаете к группе Ломтикова?
- Ох, - сказал Татарников, - даже и не знаю о такой группе. Опасная, да? Вероятно, не примыкаю,
- Тогда в чем же дело? В чем наши разногласия?
Татарников поглядел на Кузина и сказал:
- Некоторых пассажей в ваших сочинениях я не понимаю.
- Давайте дискутировать. Попробуем разобраться, - лекторские нотки зазвучали в голосе Бориса Кирилловича Кузина; он любил дебаты.
- Что ж тут дискутировать? - ответил ему Татарников. - Не понимаю, и все тут. Вы пишите: «Пьяный безудерж окутал Россию». Я вот думаю, может ли безудерж окутать? Данное свойство (то есть способность окутывать) присуще ли безудержам? И кто они такие, безудержи эти?
- Безудерж, - сдерживая гнев, объяснил Кузин, - это черта русской культуры. Если хотите, можете употребить слова «бунт», «произвол».
- А у вас получается, что безудерж - это нечто вроде тумана.
- Что ж, если хотите, безудерж туманит сознание, - согласился Кузин, - и не придирайтесь к мелочам! Смысл понятен.
- Мне кажется, Россию окутал совсем не пьяный безудерж, - заметил Татарников, который был, как обычно, слегка нетрезв, - а какой-то иной. Скорее, трезвый безудерж. Про это у вас в другом месте сказано: «Чем сильнее обгон Запада, тем энергичнее трезвеет Русь».
- Именно так
- Я и ломаю голову: кто такой этот обгон и хорошо ли, что он сильный?
- Обгон, - сказал Кузин, - возникает, когда одно развитие обгоняет другое.
- Как, простите?
- Если один человек обгоняет другого - происходит обгон.
- Вы полагаете?
- Уверен! И не цепляйтесь к частностям! Концепция ясна!
- Именно концепция мне и не ясна, - сказал Татарников. - Я ведь, простите, историк. Для меня общая картина из деталей состоит, из мелочей, из частностей. Я подробности люблю: сведения об урожае, удое, бюджете. Сколько тракторов выпустили, какую площадь трактора обработали.
- При чем тут трактора? - нетерпеливо сказал Кузин.
- Как же! Вы цифры приводите: на Западе 120 тракторов убирают 1000 гектаров земли, а в России - на ту же площадь 11 тракторов. Я и думаю: хорошо это или плохо? Надо бы сопоставить это с затратами на удобрения, с отпускной ценой урожая.
- Оставим трактора, - отмахнулся Кузин от тракторов. - Это не принципиально. Тракторную промышленность я взял лишь как пример российской дикости. Давайте рассуждать по существу концепции.
- Стараюсь, - согласился Татарников, - но не получается. Вы спрашиваете, «что предпочесть: вологодский колхоз - или западную ферму?» На такой вопрос сразу не ответишь, надо предмет изучить. Тут вы опять данные приводите: в Америке сельским хозяйством занимается три миллиона человек, а в России - двадцать миллионов. И вывод: ломать колхозы к чертовой матери, освобождать население от рабского труда.
- Это сухие цифры, - сказал Кузин с достоинством.
- Да нет же, - сказал ему Татарников, - это только некоторые из сухих цифр. Есть и другие цифры. Например, число граждан, занятых в обслуживании сельского хозяйства. В Америке на одного пахаря работают семь человек помощников вне фермы - те, что представляют инфраструктуру аграрной промышленности. Производство, переработка, ремонт техники, хранение продукта, продажа и реализация прибыли - вы, Борис Кириллович, в такие пустяки вникать не любите, но хозяйство, оно из таких вот пустяков и состоит. Число людей, занятых в американской аграрной промышленности, надо бы на семь помножить. Это мы еще так называемый Третий мир не посчитали - там крестьян немало, а на кого они работают, не знаете? А в России - мужик, он мужик и есть, никто ему в работе не поможет.
- Разве это хорошо? - спросил Кузин. - Вдумаемся: не свидетельствует ли данная ситуация о нездоровом укладе российского хозяйства? Я полагаю, что западный уклад предпочтительнее.
- Уклады разные, - сказал Татарников, - и земля разная. Только у вас получается, что люди Запада с проблемой хозяйства не сталкиваются, а сплошь отдались высокому досугу. Ходят вдоль улицы и на лире бренчат. Но они этого не делают, Борис Кириллович, они в офисах сидят, дебет с кредитом сводят.
- К чему эта демагогия? Вы отлично понимаете, что я имею в виду, но придираетесь к деталям.
- Нет, - сказал Татарников, - в том-то и дело, что не понимаю. Отчего страна с тысячелетней историей должна предпринимать цивилизационные попытки, понимать отказываюсь. Лапти, Борис Кириллович, производили в России не потому, что они хорошо на экспорт шли, и не от дикости - просто обувь по погоде удобная. Жизнь в нашей стране не грех бы улучшить - но исходя из истории этой страны, а мы с вами до этого простого дела никак добраться не можем. Вы, Борис Кириллович, не об истории России рассуждаете, а о ее историках - о тех чиновниках, которые интерпретируют положение дел и, простите, делают это в своих интересах. Но к истории это отношения не имеет.
- История в России началась с Петра Первого, - сказал Кузин запальчиво. - Личность появилась! Петр даровал России историю!
- Не думаю, - сказал Татарников, - Петр даровал России очередного историка - в своем лице. Произвол, не связанный законами сложного социума. Вот и все. И сегодняшние историки точь-в-точь такие же.
- Но ведь лучше жить стали! - сказал Борис Кириллович. - Двинулись по трудному пути цивилизации! И вы сами - разве не чувствуете, как жизнь меняется?
- Как-то мне совестно, - сказал Татарников, - выдавать свою зарплату и заграничные командировки за норму - перед людьми, такой возможности не имеющими.
- Я хочу блага этой стране. И готов пожертвовать всем ради ее будущего, - сказал Кузин серьезно. - Вот увидите, если потребуется, я на все готов.
- Что же от нас с вами, Борис Кириллович, требуется? Книжки читать и в мелочах, по возможности, не лукавить. Слова русские грамотно употреблять. А больше и не нужно ничего.
- Вы увидите, - повторил Кузин настойчиво, - что я отвечаю за свои слова! Я докажу! - и, набычившись, побурев лицом, Кузин снова повторил:
- Я докажу!
И не было сомнений в том, что российская действительность находится в руках умелых дизайнеров - и они докажут свою состоятельность.
IX
Впрочем, для полноты картины мы обязаны рассмотреть не только позитивное воздействие дизайна на жизнь и взгляды, но и некоторые неудобства трения, которые могут возникнуть меж теми, кто полностью разделяет эстетические вкусы века, - и теми, кто их чувствует не столь глубоко. Да, даже в просвещенном обществе, в открытом и развитом обществе возможен разлад.
Как бы прекрасен ни был союз двух сердец, сколь гармоничным он ни казался бы, но не существует такого союза, который был бы защищен от распада. Подобно тому, как принц Чарльз вынужден был признать конфликт с принцессой Дианой неразрешимым и стал жить с нею раздельно; подобно тому, как Райнер Мария Рильке под влиянием обстоятельств пошел на разрыв с нежно любимой им Саломеей; точно также, как великий теннисист Борис Беккер, повинуясь неизбежному, расстался с темнокожей красавицей Барбарой, - так и Сыч в конце концов разъехался с хорьком. Расставание далось ему нелегко. Иные люди, те, для которых расставание с прежней жизнью и обретение новой - вещь обыденная, не склонны видеть в разрыве с любимым трагедии. Сколько их, беспечных, сменивших по пять жен, десятки раз клявшихся в любви новым избранникам, обновляющих жизнь сердца раз в сезон; сколько их, не знающих, что такое постоянство! Что им муки сердца, что им щемящая пустота - они про это и знать ничего не знают. Сыч был не таков. Когда грузовик, увозящий хорька и его пожитки: коробки с лентами, кофры с сарафанами и сафьяновыми сапожками, скрылся за углом, художник испытал приступ слабости. Закололо в боку, отнялась правая рука, онемела щека и распух язык. Взгляд хорька, коим тот проводил фигуру любовника, привел его в почти что безумное состояние. Круглые черные глазки встретились с глазами Сыча и сказали ему: «Прощай. Что было у тебя в жизни, кроме меня, подумай? Рутина, серые денечки. Что ты знал? Толстых, скучных женщин, пьющих друзей, - кто они рядом со мной? Соответствуют ли они эталону прекрасного? Разве до встречи со мной ты знал страсть? Кто ты, - говорили эти глаза, - кто ты без меня? Ты сможешь работать, творить, думать - без нашей любви? Кто понимал тебя лучше? Кто был нежнее?» Сыч бесцельно слонялся по квартире, глядел на то место возле кровати, где стоял ящик с песком. Каждое утро он сам относил хорька в этот ящик для отправления естественных гигиенических процедур. Поразительно, но даже эти, в сущности, малопривлекательные подробности Сыч вспоминал сейчас с нежным и одновременно тоскливым чувством. Хорек умудрялся даже в интимных деталях утреннего туалета сохранять грациозность и естественность. Сыч глядел на пустой прямоугольник паркета, на котором скопилась пыль из-под ящика; сердце его колотилось так, что он сам слышал удары. Жена уже устанавливала на месте ящика трельяж и звякала флаконами духов. Его шокировало то, что жена немедленно вернулась на прежнее место, оставила кладовку и резво перебралась в спальню. Будто бы не было долгих месяцев и лет сердечных волнений, будто бы не было пролито слез, словно бы страсть не терзала сердца - ничего будто бы не было, как не было жизни и чувств. Вот она тащит из кладовки свой полированный трельяж обратно в спальню - и ничего не отражается на ее лице. Бесчувственная тварь, подумал Сыч про жену и поморщился. Качая полными боками, уверенно шагала его жена по квартире и, находя следы хорькового пребывания, немедленно их уничтожала. Нашла розовую ленту, украшавшую хвост, и тут же потащила к мусоропроводу. Сыч следил за ней с раздражением. Как бойко она кинулась на чужое место, как охотно вернулась на супружеское ложе. Что-то было плебейское в ее желании утвердиться на хорьковой территории. Ночью, держа в руках рыхлую вялую плоть жены, Сыч вспоминал упругое шерстяное тело хорька, и то, как хорек извивался и бился в постели, сладостно урчал и повизгивал. Сильное бархатное тело хорька вздрагивало, когда Сыч сливался с ним, маленькая головка на гибкой шее поворачивалась к Сычу, и маленький рот с острыми зубками открывался в пароксизме страсти. Разве мыслимо после этого прижимать к себе потное, мучнисто-белое тело немолодой толстой женщины. С брезгливостью откатился Сыч на край постели, завернулся в свой край одеяла, чтобы и не чувствовать даже человека, нахально развалившегося тут, рядом с ним. Сколько такта проявлял хорек при соитии, сколько подлинного чувства было в их взаимном обладании. Сыч лежал и вспоминал гладкую шелковую шерстку зверя, которую так любил поглаживать, отходя ко сну. Он обычно, прижимаясь щекой к хорьковой спинке, нежно приговаривал: откуда у хорька такая шерстка? А хорек, грациозно повернув к нему маленькую головку, таинственно улыбался в усы, словно отвечал: никто не знает. Казалось, хорек унес с собой тайну гармонии, нечто главное осталось непонятым, самое существенное в отношениях навсегда пребудет теперь загадкой - и таинственная улыбка хорька, сравнимая разве что с улыбкой Джоконды, вновь и вновь возникала в измученном сознании Сыча.