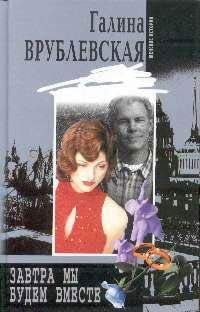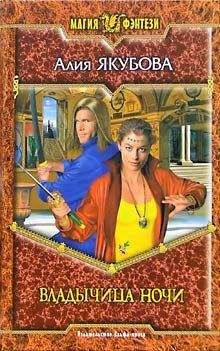Юрий Герман - Я отвечаю за все
— Они, как коршуны, вырывают у живых куски живого сердца. Но надо идти и идти, надо шагать своей дорогой, пока есть силы, и, по возможности, улыбаться, доктор, изо всех сил улыбаться, вселяя бодрость в свою команду. Посмотрите, как я буду улыбаться, я научился…
Это был хороший урок Устименке в свое время.
И ему следовало так улыбаться, он здесь тоже «первый после бога». Он обязан научиться улыбаться и пребывать наружно в отличном состоянии духа. Когда дело плохо, команда поглядывает на мостик, на своего капитана. А больные — ведь это и есть команда? Впрочем, врачи тоже. И даже санитарки. Тут все перепутано, на корабле проще, но от одного факта никуда не денешься: Устименко здесь капитан. «Первый после бога» — как говорят просвещенные мореплаватели. Такой, как Амираджиби во время массированного налета и атаки подводных лодок. Такой же!
И, продолжая улыбаться, Устименко сказал словами Амираджиби, теми давними, военными словами, которые произнес Елисбар Шабанович сразу после бешеного грохота «эрликонов», после свиста падающих бомб, после сиплых команд: «Справа по корме бомбардировщик противника!» — «Пошли бомбы!» — «Право на борт!» — «Есть право на борт!» — «Отводить!»
— Помните «Лебединое озеро»? — спросил Устименко.
— Их было много — этих кордебалетов.
— Ваши слова хочу напомнить: «Это всего только танец маленьких лебедей. Это — немножко войны»…
Амираджиби вскинул на Устименку гордую голову, все еще гордую, на слабой куриной шее.
— Вы считаете?
— Убежден. Погодите, мы вами займемся.
— И не приспустите флаг в честь погибшего судна?
— Нет, — сказал Устименко, «первый после бога», капитан на мостике в бою, в двенадцатибалльный шторм, перед самой гибелью. — Нет! Вы будете в порядке, я ручаюсь!
ГОЛЫЙ И БОСЫЙ…
— Копыткин третий день звонит, — сердито сказал полковник Свирельников, кладя трубку ВЧ. Он всегда говорил именно звонит, а не звонит. И такси, а не такси. И бытующее слово «компроматы», то есть компрометирующие материалы, произносил с ударением на первом слоге — «компроматы». — Вынь да положь ему — Копыткину, значит, — фамилию, который в ЦК письмо доставил.
Неприязненная улыбка пробежала по его губам, ему когда-то сильно влетело от Копыткина за бездеятельность, и с тех пор Свирельников возненавидел генерала. Впрочем, некоторые утверждали, что все случилось наоборот: были слухи, что Копыткин взыскал со Свирельникова как раз за слишком крутую деятельность.
— Пришлось, хоть и старшему в звании, а разъяснить, что такие типы, как вышеназванная осужденная Устименко, на блюдечке с каемочкой показания не дают. Даже заспорить не соизволил. Он, понимаешь, вроде мне приказывает…
Когда Свирельников сердился, делалось понятно, что человек он совсем темный, слово «понимаешь» становилось главным и чуть не единственным в его лексиконе, а остальное были просто длинные, нелепые матюги.
— Интеллигент, понимаешь! — выругался он. — Хлюпик!
Ожогин молчал. Хоть бы сесть предложил — сколько можно стоять перед начальством.
— Срока получает по особому совещанию, шпионка, понимаешь, луна по таким плачет, а он — давай полное признание. Я ему — вы сами, товарищ Копыткин, пробовали с такими беседовать? А он — мне не беседы нужны, а документ, протокол допроса.
Ожогин молчал. Ему совершенно ясно, что сейчас Свирельников напустится на него.
— Как она?
— Кантуется в санчасти, — неопределенно ответил Ожогин.
— А точнее?
— Выходит, приболела.
— Ты мне не выкручивайся, — сказал Свирельников. — Я не из Международного Красного Полумесяца и не из баптистов. Отвечай как положено!
Ожогин ответил как положено, с возможными для такой беседы подробностями. Лицо его выражало недоумение и раскаяние. Будто он и впрямь не знал, как это с ним сделалось. Но, с другой стороны…
И он развел руками:
— Работа такая, в белых перчатках толку не будет.
Это он повторил любимые слова Свирельникова, чего, наверное, делать не следовало, потому что таким путем он как бы и ответственность за свое рукоприкладство взваливал на полковника.
— Ты с больной головы на здоровую не вали, — сказал Свирельников сурово. — Тоже умник, понимаешь! Про белые перчаточки я как вас инструктировал? Про излишнюю вежливость вашу речь была, чтобы интеллигентщину не разводить, либерализм, всякие там — «извините, разрешите». С врагом как с врагом, вот о чем речь шла. А если что и вышло, то разве поаккуратнее нельзя? Вон лежит, понимаешь, а на меня Копыткин жмет. Какое у тебя задание? Найти гада, который клеветническое письмо в ЦК решился доставить. Кому? Даже имя невозможно назвать, священное для нашего гражданина имя. Теперь представь в своем мозгу: попадает письмо лично в руки, читает он клевету, злобный вымысел, пасквиль, и расстраивается, отвлекается от государственных дел, затрачивает свое драгоценное время на выяснение подробностей про эту Устименко. Ну, а мы на что? Выходит, мы даже оградить не можем? Избавить? Где же наша бдительность, которой лично он непрестанно нас учит? Где, а?
Ожогин промолчал. Он не смог бы ответить на этот вопрос.
— Найти негодяя в своих рядах, — глядя мимо майора прямо перед собой, заключил Свирельников. — Вытащить за ушко да на солнышко врага, который письма осужденных и лишенных права переписки передает. Обнаружить такового и материалы на него переслать для соответствующего наказания. Вот такую задачу перед нами поставил товарищ Копыткин, и мы эту задачу — кровь из носу — выполним. Понятно?
— Понятно, — покорным голосом сказал Ожогин.
— Так что ж дурочку клеишь?
— Виноват, товарищ полковник, понервничал.
— Вот и будешь отвечать, раз виноват. Не место тебе здесь, выгоним. Если такой нервный — шел бы комиссоваться. Здесь железные нервы надо иметь. Не детский сад.
Он принялся чинить карандаши, которыми писал резолюции, вернее не резолюции, а резолюцию, всегда одну и ту же: «Согласен». Если же Свирельников был не согласен, то ничего не писал, а ругался. Ниже слова «согласен» он расписывался. Число ставил сам. Карандаши полковник чинил удивительно красиво и когда занимался этим делом, то словно бы весь преображался. Нож для этой операции у него был особый, и точил он его в своем кабинете часами. Это была единственная слабость Свирельникова. Других за ним не значилось: он не пил, не курил, не знал языков, даже в войну не был за границей, не держал друзей. Он только работал, и это все про него знали.
И знали про него еще одно: он был родственник. Про то, чей именно, ходили разные слухи, одно только было известно совершенно точно: Свирельников находится с кем-то весьма и весьма влиятельным не то в родстве, не то в свойстве. Супруга его Елизавета Ираклиевна кому-то тетка, либо племянница, либо даже сводная сестра. Сам Свирельников на эти темы говорить воздерживался, но начальник АХО Пенкин, однажды сопровождавший супругу полковника Свирельникова в столицу, потом рассказывал в своем кругу, какая машина их там встретила и куда повезла. Разумеется, Пенкин ничего подробно не описывал, но «давал понять». И это было куда существеннее любых подробностей.

![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)