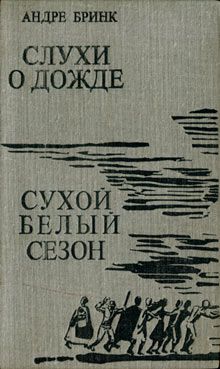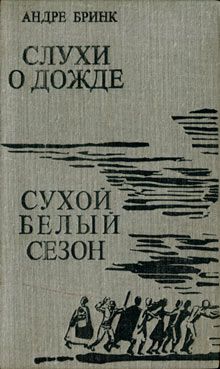Андре Бринк - Слухи о дожде. Сухой белый сезон
Так кто он, «мой народ сего дня»? Кому мне хранить и нести свою верность? Должен же быть кто-то, что-то должно быть? Или никого, ничего, и ты совершенно один в этом пустынном вельде под табличкой с названием несуществующей станции?
Единственное, что весь день тревожит мою память, куда как более овеществленное, нежели эти вот добротные каменные школьные корпуса, — это то далекое лето, когда мы с отцом перегоняли овец. Засуха, та, что отняла у нас все, оставила ни с чем, обожженных зноем, одних на всем белом свете среди белых же скелетов.
Все, что было до этой засухи, никогда меня особенно не занимало, да и в памяти не запечатлелось, ибо тогда и только там я впервые открыл себя и весь мир. И мне кажется, вот я ищу себя на грани надвигающегося нового сухого белого сезона, быть может, куда более жестокого, чем тот, что запомнился с детства.
Что дальше?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Ночью город выглядел незнакомым, другой город. Когда они подъехали к придорожной таверне «У дядюшки Чарли», солнце село. Но еще раньше, у дымящих на всю округу труб электростанций, нестерпимый пламень солнца померк в тяжелом облаке дыма и гари, размазался, подобно румянам. Зимний холодок повис в воздухе. Сеть выветриваемых временем и погодой дорог и тропинок в вельде; затем железнодорожный переезд. И, круто свернув направо, дорога разбежалась по улочкам, обстроенным рядами прилепившихся друг к другу, приземистых строений. И наконец они здесь, и все, как в прошлый раз, вокруг них, и, как и в прошлый раз, они были переполнены чувствами, но только теперь другими. Темнота зримо смягчала и затушевывала неистовство противостоявших сил, скрывала детали, резавшие глаз. Нищета? Мерзость запустения? Где вы это видите? — вопрошала она. Все было как было, оглушая самим фактом своего существования, чуждым, пугающим даже. Хотя темнота же и успокаивала. Она скрывала от откровенно уставившихся на тебя глаз. А свет, мелькавший в квадратных оконцах неисчислимых домиков — мертвенно-бледный, газовый, теплый от свечей и керосиновых ламп, — вызывал в памяти дорогие сердцу детские воспоминания о поездах, проносившихся в ночи мимо забытого богом разъезда. Нет, здесь все было наполнено жизнью, только с донельзя приглушенным звуком. Словно выключили привычный уху диапазон частот, оставив лишь нечто скрытое от слуха и тайное, осязаемое не слухом, но плотью. Сотни тысяч отдельных жизней, чье существование тогда, в первый раз, ощутимо воспринималось: детей, играющих в футбол, цирюльников, женщин на перекрестках улиц, молодых людей с сжатыми кулаками — теперь обратились в расплывчатое очертание некоего единого вездесущего организма, урчащего и шевелящегося, жадно поглощающего все и вся, подобно гигантской утробе, и переваривающего, проталкивающего дальше волнообразным сокращением своих стенок, чтобы либо усвоить либо извергнуть в темноту.
— Что это вы разглядываете? — поинтересовался Стенли.
— Стараюсь запомнить дорогу.
— Не старайтесь, это не для вас занятие. — Но он сказал это без тени неприязни, с симпатией даже. — А потом, я-то здесь на что?
— Знаю. Но предположим, мне придется как-нибудь добираться самому?
Стенли рассмеялся, круто рванул руль, бродячая собака едва не угодила под колеса.
— И не пытайтесь, — сказал он.
— Не могу я, Стенли, вечно висеть у вас камнем на шее.
— К черту. Мы одно дело делаем.
Это его тронуло больше, нежели все, что он слышал от Стенли до этого. Выходит, в конце концов права Мелани: каким-то непостижимым путем его «приняли».
Он позвонил Стенли накануне вечером. До этого целый день терзался сомнениями. А чтобы Сюзан ничего знать не знала, пошел звонить из телефона-автомата за три квартала от дома. Договорились встретиться от четырех до половины пятого, но Стенли еще опоздал. Так что, когда эта его громадина белый «додж» показался на стоянке, там, где они и в прошлый раз встречались, было чуть не половина шестого вечера. Хоть бы извинился, ни слова. По правде говоря, его даже удивило раздражение Бена.
На этот раз он был без этих своих темных очков, они торчали из кармана коричневой куртки. Сорочка в полоску, галстук в цветочек, не галстук, а гербарий. На манжетах сорочки запонки с крупную монету.
Он рванул с места так, что, когда взревел мотор и взвизгнули колеса, садовник в голубой робе на лужайке против гаража только рот разинул и долго смотрел им вслед.
— Я думаю, следует кое-что обсудить с Эмили, — сказал Бен, когда машина спокойно покатилась наконец по улицам. — И в вашем присутствии, конечно.
Стенли подождал, что еще. Присвистнул, довольный. Согласен.
— Служба безопасности устроила у меня обыск третьего дня.
Здоровяк рывком повернулся к нему.
— Вы что, шутите?
— Нет, правда.
Трудно сказать, какой реакции он ждал, все, что угодно, только не этого: из нутра Стенли раздался утробный хохот, он чуть не пополам согнулся от смеха и едва на тротуар не выехал.
— Что вас так развеселило?
— Они в самом деле нагрянули к вам? — Хохоча и будто не веря собственным глазам, он пялился на Бена. И тут же хлопнул его по плечу. — Ну, встряхнитесь же, белый. — Он еще долго фыркал от смеха и, вытирая слезы, спросил: — А зачем это они, как по-вашему?
— Я думаю, тут не обошлось без доктора Герцога. Он ведь был на суде. Ну, я и отправился поговорить с ним в расчете выяснить, что он действительно знает о Гордоне.
— Он что-нибудь сказал?
— Ничего не вытянуть. Но я уверен, он знает больше, чем пожелал сказать. Или боится полиции, или сотрудничает с ними.
— А чего вы еще ожидали? — Стенли усмехнулся, — Так это он и вывел на вас фараонов? Забрали что-нибудь?
— Старые записи. Ну, письма кое-какие. Ничего особенного. Да ничего и не было. Может быть, они просто хотели припугнуть меня.
— Не очень-то обольщайтесь.
— Что вы имеете в виду?
— По тому, что вы знаете, они и впрямь могут подумать, что здесь дело серьезное.
— Не верю, чтобы они были настолько глупы.
— Белый вы человек, — протянул он с самоуверенной ухмылкой, — никогда не переоценивайте этих типов из СБ. Конечно, с ними не зевай, в любую щель пролезут, этого у них не отнимешь. Им ведь только намекни, будто они на какой-то там след вышли, — ну заговор там, — и я вам говорю, их уж ничем не убедишь отступиться. Хуже пиявки присосутся. По упрямству тупому эти gattes ну просто чемпионы. Я их не первый год знаю. Уж если они решили, что, мол, бомбу ищут, тут хоть их носом в компот тычь, они богу поклянутся, что это бомба.
Бен почувствовал, как у него помимо воли заходили от злости желваки. Но он не дал себя убедить.
— Говорю вам, Стенли, они просто хотели припугнуть меня.
— Так чего ж вы не испугались?
— Именно потому, что они так старались. Если они намереваются меня шантажировать, я должен знать с какой целью. Что-то должно стоять за этим. Без вас мне не справиться. Но если вы мне поможете, мы раскопаем, что за этим кроется. Знаю, это — нелегкое дело, придется запастись терпением. Но мы с вами, Стенли, можем действовать вместе. Это наш последний долг перед Гордоном.
— Последний? Вы уверены, что больше уже ничего не изобразишь? Ну, что поздно?
— Вы помните день, когда я сказал: мы должны быть осторожны, пока это не зашло слишком далеко? Вы тогда еще посмеялись надо мной. Вы сказали, что это только начинается. И были правы. Теперь я понимаю. Ну так вот, я дойду до конца. Если поможете.
— Что значит до конца? — Теперь Стенли был предельно серьезным.
— Сам пока не знаю, а только придется размотать всю цепочку.
— Думаете, они позволят?
Бен тяжело вздохнул, сказал:
— Какой смысл загадывать, Стенли. Будем довольствоваться тем, что есть, наше дело идти шаг за шагом.
Этот здоровенный парень за рулем, рядом с ним, только хмыкнул, но с явным облегчением. И они долго ехали молча в густом дыму и пыли дороги, пока Стенли не затормозил у какой-то черной дыры, что равно могло быть переулком и обыкновенным пустырем. Когда Бен потянулся открыть дверцу, Стенли остановил его.
— Нет-нет, погодите. Это чуть дальше. Сначала я проверю.
— Вы что же, не предупредили ее?
— Сделано. Лишних глаз не хочу. — И, поймав на себе недоумевающий взгляд Бена, объяснил: — Здесь, в кабаке, полно осведомителей. А у вас своих проблем хватает, а? Ну, пока. — И, хлопнув дверцей, исчез в темноте.
Бен слегка опустил стекло. В машину тотчас потянуло едкой гарью. Сознание — ощущение? — освобожденного от телесной оболочки звука переполнило его и все нарастало. И снова, только еще с большей силой, нахлынуло чувство, будто он в некоем чудовищном чреве, урчащей утробе: вот оно бьется, черное сердце, сокращаются и расслабляются мышцы, железы извергают свою непостижимую субстанцию. В отсутствие Стенли все это обрело еще более угрожающий и зловещий вид, вырисовалось в некоем аморфном и оттого только более жутком своем естестве. То, что заставляло его оставаться здесь и сидеть и ждать, притаившись, когда напряжена каждая жилка и пересохло во рту, не было больше страхом перед бандой цоци или полицейским патрулем и не сознание, что он может вдруг подвергнуться нападению среди ночи, а нечто переполняющее и непостижимое, как сама ночь. Начать с того, что он не знал даже, где находится. И случись, Стенли не вернется по какой-то причине, он никогда ни за что не выберется отсюда. У него ни карты, ни компаса, равно как ни малейшего представления, куда и как идти в этой кромешной тьме, — ничего, на что можно было бы опереться в памяти. У животных хоть инстинкт, а тут ничего, ну ровным счетом. Открытый всем мукам и беззащитный перед ними, он сидел, не смея шелохнуться, чувствуя, как по коже бегают мурашки даже от легкого дуновения воздуха в щелку чуть приоткрытого окна.