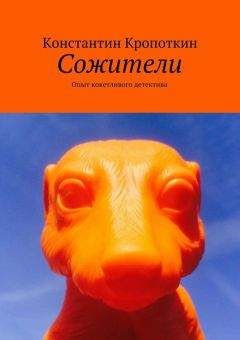Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
— Мы все — очень москвалымские люди, — горько говорил Еръ глуховатым голосом. — Люди вечной зимы, туманных мечтаний, красивых сказок… Например, про мальчика, который вместо салазок катался с горки на дохлом замерзшем старике, а тот возьми и оживи — и укуси… Мы уже не живем. Мы себя зарыли — заранее. Люк — склеп. А наверху — саркофаг. Недаром на Москвалыми младенцев между кормлениями пеленуют, как мумию, — приучают — поел со свое в меру и замри, не буянь. А в родительскую, в Духов день — на кладбище пиршества, сатурналии. Спешат — сесть за столик, врытый на могиле, постукать крашенкой об оградку, облупить скорлупу, налить очищенной, вскрыть банку тушенки, будто жестяной гроб — и пальцами, торопливо… Копай-Город… Убежать от них в книги? И там гнет. И Ферт-умница все как есть понимает… Мечется… Мучительно, растерянно… Грустит-вертится, крутится-кручинится. Заговаривает, упрашивает Лед… Так-то, друг-буква. Ладно, забудь. Давай лучше мху нарвем и в обратную дорожку тронемся…
Вечером у костра морщинистый старичок Еръ увлеченно лечил полуногого грибана Люди, делал ему прививку. Он просверливал в бритом черепе увечного небольшие дырочки и туда хлопотливо мох уладывал, запихивал. Голова начинала расти, распухать, деревенеть, понемножку обрастать мхом. Думать, ледуха, принималась! Вещать невнятные вещи: «Волны холода авраль, а на улице явнырь, сани с лета приготовь и смывайся на рысях, вымой кисточки ушей и морозы нарисуй, и влекся вол торопко в дол, телегу доставай со льда, один соконь — гарпия, другой — энтропия, см. «тепловая см.», сомлеешь, оторопь в дверях, ты кто, ну и что — ну и все…»
В разгар оздоровительного мшистого бубненья, когда все, приоткрыв рты, слушали интересное, из опасной трубы вылезла, задевая боками стенки и царапая бетон когтями, огромная многолапая безглазая ящерица, покрытая костяными пластинами, с загнутым рогом на морде — разинула здоровенную зубастую пасть, высунула раздвоенный язык, лизала воздух.
И тут Илья восхитился букварями. Никто из сирот не побежал бестолково с воплями, давя других, искать спасения — нет, каждый знал свой бой — Ферт выхватил головню из костра, хромоного подскочил и хладнокровно ткнул факел в морду порождению тьмы, Сиж и Тырь развернули и кинули крепкую сеть, Пуг набросил проволочную петлю на шипастый хвост, Глаголь не спеша поднял тяжелую пику с широким лезвием, добытую, видимо, в стычке с патрулями, примерился и с размаху вонзил между пластинами в пульсирующее горло. Но больше всего поразил Илью морщинистый старичок Еръ. Он метался вокруг ящерицы, разъяренно шипел на нее, и она ему злобно отвечала, рвясь из сети, а когда стала долго подыхать — обожженная, пронзенная отравленной наверняка пикой, то Еръ подползал поближе, вплотную, и бешено хрипел в такт с ней. Глаза у него при этом побелели, нос и щеки покрылись инеем, изо рта валил ледяной пар, кривые ногти на руках заострились и вытянулись.
«Тут напугаешься, — хмуро кивнул себе Илья. — Старичок Еръ, оказывается, — зимак. Вот так. Вот те и на. Причем из ранних, прежних — весь в серебре. Надо бы его попросить отсыпать! Нетактично… Как он когти-то выпустил — загляденье. И ящерку умело дразнил — явно языки зверья знает, повадки. Зоосимный старец. Такой возлюбит… Костей не сносить!»
Засим морщинистый старичок, успокоившись и уже улыбаясь, сидел с ногами на ужасной безглазой голове и отпиливал ножовкой рог.
«А ведь она пришла, очевидно, всего лишь забрать красивейшего юношу, — кивал Илья. — Брела по трубе ощупью, протискивалась». Еръ приволок рог, как полено, к костру. Илья отпрянул.
— Для тебя ж старался, — обиженно сказал Еръ. — Если его истолочь с золой и сивку в полночь настоять и выдуть — все бабы твои. Полный улет!
— Спасибо, — Илья кивнул, отмахнулся. — Я и с полстолько не управлюсь. Потом — толочь, настаивать… Наверх за ними лезть… А нельзя, чтобы они сами через трубу прилетали?
Морщинистый старичок Еръ поморщился брюзгливо и потом в этот изогнутый рог торжественно трубил по утрам.
Елка жития в Люке хвоила по-заведенному — клубни с отрубями, разговоры про Лед, мох в головах. Илья уже подумывал череп себе обрить и дырочки проделать. С Глаголем-дичником сошелся поближе, просил взять с собой наверх поохотиться — «из меня манок хороший, патруль клюнет, завалишь», — но тот пока не соглашался. Глаголь утречком поднимался по железным скобам, вылезал из Люка, полз под снегом, садился в сугроб — ходил на охоту. Возвращался с добычей ближе к ночи, когда многие уже спали вповалку вокруг костра. Тлели угли в золе, точно красные воспаленные глаза весьма начитанного божества. Илья сидел на шкуре ящерицы, писал, задумчиво почесывая себя за ухом, значки в тетрадь. Ждал, когда закипит вода в закопченном котелке. Глаголь сваливал песца с плеча, устало опускался рядом. Илья порывался вежливо уступить нагретое место, однако Глаголь удерживал его:
— Сиди. Слушай. Расскажу.
Начинал медленно гундеть, как нынче в буране выкомаривал — замел следы и ловко ушел от монастырских, а те двоих не досчитались. Глаголь разжал кулак и показал две колючие ржавые звезды с патрульных колпаков-будетляновок. У него с патрулями были давние счеты — сидел когда-то Глаголь, прикованный к стене, в страшных монастырских подвалах, где на крюках взвешенные корчились и в масле очищаемые варились, там-то ему лицо лампадами и выжгли — «ибо угрюмым очертанием огорчало сердца благонамеренных и послушных». А когда сбежал, проломив стену, — голый, по снегу, с обрывками цепей на руках, угрохав в сугробах посланный вдогонку карательный патруль, — то тут же его в список «искать и гондобить» занесли и зачитывали с клироса, проклиная. Ну, он им тоже припоминал! Как начнут, бывало, собирать на церковь — на построение — и обходить строй с подносом, на который кидали отрубленные пальцы с кольцами и уши с висюльками — вечер, перезвоны, дым костров, монастырский придел, позолоченные ризы, тяжелые бармы, несомые образа, кадила, пенье речитативов, — а Глаголь тут как тут — откуда ни возьмись, посвист, горящая стрела в иконостас, в смолистые доски — пропела и впилась, дрожа — и уж вспыхнуло, занялось… Нагрянет в огне, отберет, раздаст. Народ пропьет на радостях… Руки у Глаголя в незаживающих шрамах — зарубки себе делал, сколько злых лишил существования, добыл, лед в ряд…
Так ночь у Ильи и течет — костер потрескивает, котелок побулькивает, Глаголь повествует. Просыпались другие буквари, вступали в разговор, загораясь. Честили на все корки злых патрулей — шляются надвьюжно чертовы «монастырские дюжины» в кольчугах-бармицах (ох, дедароново словцо), железных колпаках и с пиками за спиной — не дают людям ладом обретаться! Божество-то у них было, худо-бедно, терпимое и нам велящее, вяленое, золотящееся, да владычество больно уж злобное и страшное — иго свихнувшегося верховного игумена, Ослепшего Поводыря. Прогрессирующая цедекия довела того до того, что свирепый Осл, старец-сволочь, рассылал всюду своих соглядатаев и любовно волок кого попало в полон, на расправу.
— Мы веруем, что Лед свят и монолит, — твердо говорил Ферт. — Жить не по лыжне! Нам тут крещеных мягких знаков — ятей — не надобно…
— А их не трогаем, релижников, молитеся хоть стульчаку, — смирно поддакивал Еръ.
— А они, слепари, нас ловят и — за разлад удобоваримости — на солончаки ссылают бессрочно!
— А там вич воет и развалины бараков…
— Песцы дозорные, монастырские… Блоковые двенадцатиглавые! Буквоеды!
— Еще и на щеке лучинками слово «ров» выжгут… На латинке «побоку», значит — в отвал. Поймают, ослепки, мешок на тебя напялят — и на солончаки, на смирение…
— А на солончаках не сахароид! И алкалоидов нету… Потаскай-ка пудовики…
— Ты, друг-буква Юди, не кивай с сомнением — мол, это как? Как говорят, так оно и есть. Есть такое место — Пестрая Дресва и соляные копи там. Там, знаете ли, не солярий…
— Отогревают землю кострами и долбят кайлом — соль добывают. И едят ее же. Тоже — сыт не будешь…
— Оттуда люди не возвращаются. Там вич воет рабинно — и от этого тело сначала язвами покрывается, а потом белеет и кристаллизуется — буквы в цепочке перестраиваются.
— Схватили как-то одного нашего — Фиту, — давно это было, уж две ящерицы назад — и прямиком на солончаки…
— А там рытье-ковырянье под рык надсмотрщ, и сам постепенно превращаешься в соль — отложение. Это в притчах у Сола — всю ночь напролет поет император во дворце-растрелли, вьет трели, а наутро — расстреливают… Сколько сказаний, знаете ли, колымагический, эх-ма, рыализм… Мерзлота, мерзавцы…
— Зачем им соли-то столько?
— A-а, есть такая бредовая идея — льды засыпать, изменить природу человечества. Чтоб не скользило. Одно слово — Осл-поводырь!