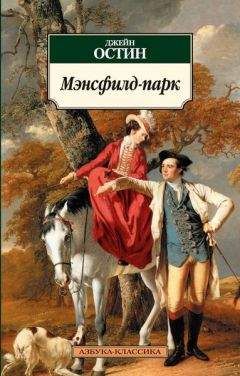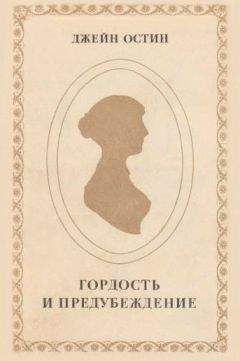Инга Петкевич - Плач по красной суке
Итак, если вам предлагается — пусть совсем в необязательной форме — явиться куда-либо для беседы, вы обязательно пойдете. Вы вполне могли бы игнорировать подобное неофициальное приглашение, но тогда вас замучат сомнения, подозрения, мнительность. Вы пойдете, чтобы прояснить для себя ситуацию, узнать, зачем вас вызывают, понять, чего от вас хотят. Но вы никогда ничего не поймете и не узнаете. Вам зададут массу необязательных вопросов, поговорят о погоде, о политике, о литературе, о семье, о ваших знакомых… И вы уйдете еще в большем недоумении и смятении, чем до начала визита. Потом вы не будете спать ночей, тщательно анализировать каждое слово в поисках цели и смысла этого вызова и опять же будете сходить с ума.
Постепенно я начала привыкать к этим таинственным вызовам. Конечно, вряд ли человек может привыкнуть к допросам: даже если невинного человека допрашивают, ему невольно приходится оправдываться, а человек, который оправдывается, невольно чувствует себя виновным, потому что он уже не просто человек — он обвиняемый и подследственный. А если обвиняемому к тому же не предъявлено никаких обвинений и его долго изводят бесконечными, бессмысленными вопросами, он в смятении может признаться в чем угодно, подписать любую провокационную бумагу, только чтобы избавиться от неопределенности и понять наконец свое истинное положение в этом мире.
Времена культа с его ночной жизнью почти миновали, но они все еще предпочитали работать поздним вечером, ближе к ночи. Конечно, это можно объяснить занятостью подследственных в дневное время, но нет, такая щепетильность исключена: если им понадобился человек, они не постесняются достать его и выхватить откуда угодно. Я думаю, что они так любят ночное время потому, что ночью человек более уязвим и беспомощен перед лицом черных сил.
Пару раз меня подвозили домой на служебной машине, но в основном я шла пешком. И вот эти прогулки по ночному, пустынному городу были, пожалуй, хуже всего. Если на допросе я еще как-то держалась, отвечала, порой даже огрызалась и сопротивлялась, негодовала и требовала, то после допроса бывала выжата как лимон.
До сих пор не могу определить природу этой пустоты, этого тупого холодного отчаяния, которое я несла в себе после каждого допроса. Именно тогда я возненавидела этот мертворожденный город, этот музей-застенок, эту дьявольскую колыбель безумной ненависти Евгения из «Медного всадника». Я брела под моросящим дождем по пустынным набережным, мостам, и каждый раз мне казалось, что я не дойду, казалось, сама смерть бредет по пятам и тянет в мертвую невскую воду. Я была совершенно убитой, ни одной живой клетки во мне не оставалось. И если на пути возникала машина, я не ускоряла шага, даже перед лицом смерти я не могла бы его ускорить…
Я брела через Литейный мост и думала о тех несчастных, которые так же глухой ночью брели с допросов — если, конечно, их отпускали. Но и те, кому удавалось вырваться из зловещих стен, вряд ли чувствовали особый подъем и радость освобождения; скорее всего, они уже ничего не могли чувствовать. Точно так же, как я, они тащились гнилой ночью через весь этот мертвый город и ненавидели его лютой ненавистью раба, заживо погребенного в каменном мешке.
Я брела по набережной, а слева во мгле маячил зловещий призрак дьявольского крейсера.
— Чтоб тебя… чтоб тебя… чтоб! — как заклинание твердила я, преимущественно матом.
И на этом отрезке пути мертвая пустота внутри меня внезапно заполнялась дикой, звериной яростью. Мне хотелось, чтобы на меня напал маньяк или преступник, чтобы было кому вцепиться в глотку, рвать зубами, кусать и рычать в кровавом поединке, пока тебя не укокошат. Только такой смертный бой мог принести облегчение, освободить мой организм и очистить его от скверны гиблого опыта.
Зачем же они меня тягали и что их интересовало? В основном, разумеется, Германия: как я там жила, чем занималась, с кем общалась. Любую мелочь, деталь, подробность моей жизни у Греты: быт, мысли, нравы, церковь, огород, поросенок, операция — все им надо было знать досконально, подробно, обстоятельно. Прекрасно зная, что я не могла их видеть, много расспрашивали о сыновьях Гретхен, особенно о младшем, отчего у меня невольно закралось подозрение: уж не скрывают ли они его в каких-нибудь своих тайных закромах? Но выяснить это я, конечно, не могла. Задавать вопросы и проявлять инициативу там было не положено, такое право они оставляли только за собой.
Моя нынешняя жизнь их не особенно интересовала, они и сами ее неплохо знали и не раз поражали меня своей осведомленностью о самых потаенных и мелких событиях моей биографии. Знали они и о сексуальном маньяке из КМЛ, даже однажды пообещали его как следует наказать, но потом к этому вопросу больше не возвращались, из чего я сделала вывод о причастности моего совратителя к их организации. Подобный вывод напрашивался сам собой, уже по самому лихому почерку его преступления.
О матери почему-то отзывались с почтением, — как видно, в свое время она им хорошо послужила.
Короче говоря, их в основном интересовала Германия, и мне кажется, что у них были кое-какие виды насчет меня. Так, например, именно они натолкнули меня на мысль возобновить связь с моей Гретой и написать ей письмо. Сама бы я до этого никогда не додумалась. Мне казалось это настолько нереальным, будто я жила на другой планете. Но они не только натолкнули, они прямо-таки навязали мне эту мысль, почти приказали написать в Германию вежливое письмо, что я и сделала. И очень благодарна им за это. Этой возобновленной связью я питаюсь до сих пор, она вернула меня к жизни и надеждам.
Все было точно как в том анекдоте про еврея, которого вызвали в КГБ, доказали, что у него есть брат в Израиле, вручили бумагу, ручку и заставили написать письмо. «Милый Абрам, — начал еврей, — наконец-то я нашел время и место написать тебе…»
Словом, мне думается, что вначале они хотели меня где-то употребить и куда-то приспособить, но в дальнейшем я не оправдала их надежд, что-то в моем образе разочаровало их или отпугнуло.
Однажды им удалось не на шутку озадачить меня. Собеседование на этот раз проходило в гостинице «Европейская». Были там особые номера, специально для этого предназначенные. Помню, что в холле я уловила немецкую речь, и мне подумалось, не хотят ли меня приспособить для работы с этими немцами. Пожалуй, я пошла бы на такую работу. Но дальнейшая беседа с одним холеным вальяжным бугаем начисто лишила меня этой надежды. Все было как всегда: изматывающие, дурацкие вопросы, очередная пробежка-проверка по всем клавишам моей биографии. Хорошо еще, что в этой чертовой гостинице давали коньяк, можно было хоть как-то подкрепить свои силы. На закуску был лимон и хорошие конфеты, которые, к сожалению, в этой обстановке не лезли в глотку, а ведь я очень люблю такие конфеты. От коньяка меня разморило и клонило в сон, поэтому отвечала я крайне вяло и невнятно, так что моему следователю скоро надоело со мной возиться и он собрался меня выпроваживать. Я была уже одета и стояла в дверях, как вдруг он пригласил меня в комнату и предложил пятнадцать рублей. Я очень удивилась и отказалась. Он настаивал и даже сказал, что это будет мне компенсацией за беспокойство.