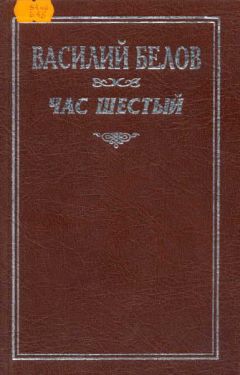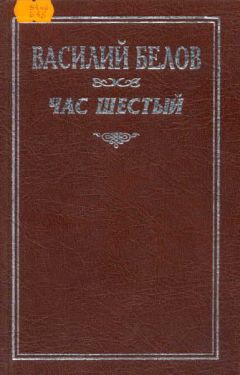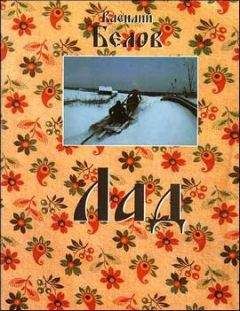Василий Белов - Кануны
— Верно, верно. Оне, которые на довжностях, им чево? Деньги везде платят, им не пахать, не косить. Он в одном месте кашу заварит, а сам в другое. Деньги пропьет, а его на повышеньё. На новом месте и сам как новенький, все грехи списаны.
— Да какие у Микуленка грехи? — сиротским голосом произнес Жучок. — Нету у ево. Все евонные грехи теперече переписаны на Евграфа Миронова. Бумаги, вишь, не наладилось под рукой, взели да на ворота переписали.
Смех и кашель растворили последние Жучковы слова насчет грехов Микуленка. То, что ворота Мироновых были обмазаны дегтем, знала пока не вся округа, поскольку дело случилось за последнюю ночь.
— Это, наверно, ведь ты, Северьян, и мазал.
— Истинно, больше некому, — согласился Жучок. — Я и мазал. На такое дело деготь жалеть нечего. Это на сапоги жалко, а на это не жалко, ей-богу, робятушки.
Все знали скупердяйство обоих Брусковых: Кузьмы и Северьяна, поэтому интерес к Жучку сразу исчез. Заговорили о других новостях.
Главная новость была та, что арестован горский Иван Никитин за то, что хряснул Микуленка пачинским коромыслом, хряснул да сам по пьяному делу и признался, а его, голубчика, тут и взяли за шкирку и на другой день отправили в район, а его двоюродный, Андрюха Никитин, поехал его выручать. Попробовал выручить через того же Микуленка, и будто бы Микуленок и сам хотел выручить, да у него ничего не вышло, тогда Андрюха перепился и начал бузить и сам попал в КПЗ, а Микуленку за то, что выпил с Андрюхой, опять приписали правый уклон. Вот только усидел ли после этого Микуленок на новом посту — никто не знал.
— Усидел, усидел! — сказал продавец Зырин.
— А ты откуда, Володя, знаешь?
— Да он вчера со станции, за товаром, вишь, ездил.
И разговор переметнулся на лавочные дела. Нечаев щедро налево и направо потчевал мужиков табаком. Но его тонкая книжечка покупной курительной бумаги быстро худела. Когда заворачивать стало не во что, Кеша достал с полавошника газетку «Красный Север» уже с початыми краями. Степан Клюшин, моргая черным своим глазом, начал отрывать на цигарку, но задумался, как бы шел, шел, да вдруг запнулся.
— Ну? Ты, Петрович, чево тут вычитал? — спросил Новожил. Клюшин бросил газету и, ни слова не говоря, пошел ко дверям…
Такой его неожиданный уход еще больше разжег интерес к газете, и Володя Зырин по общей просьбе вслух долго читал газету. На улице кони исхрупали остатки сена, снег перестал, а что напало, то начало таять. Помольщики забыли, куда и зачем приехали…
В газете № 227 от 2 октября 1929 года сообщалось о походе фашистов на Вену и о «расколе в стане китайской реакции». Зырин пропустил «Новости Северного края», зато статью «За четкость большевистского руководства колхозами» прочитал всю. В избе стало совсем тихо, дым отслоился и поднялся под потолок.
Третья страница заставила задуматься даже неунывающего Савватея Климова и язвительного Акиндина Судейкина. Аншлаги и шапки занимали в газете больше места, чем сам текст. «Кулацкие выстрелы не остановят роста соцдеревни», — читал Зырин, — «Кулаки нападают на колхозников», «Героям кулацких обрезов — высшая мера наказания»… Зырин прочитал о приговоре суда, проходившего в Чёбсарской волости, и замолк. Молчали и все слушатели. Еще никогда так явственно, так близко не представлялось то, что происходило, мало кто раньше думал, что все так всерьез, так безостановочно и так надолго.
— А где, робятушки, эта Чёбсара-то? — в тишине спросил кто-то, но скрипучие двери снова открылись. Ольховский парень, которому не удалось смолоть зерно на залесенской рендовой, приехал молоть в Шибаниху. Он-то и сообщил, что Данило Пачин и Гаврило Насонов вступили в колхоз. Этому никто сперва не поверил… Но когда парень рассказал, что сам видел, как Данило вместе с Митькой Усовым расколачивал дом и конюшню отца Иринея, как Гаврило Насонов на поводу тащил корову к Прозоровскому подворью, после такого рассказа кешинская изба стала похожа на пчелиный улей, от которого вот-вот должен отделиться рой. А может, и на такой улей, куда забрались мыши-полевки. Все заговорили друг с другом, все завставали… Нечаев перемигнулся с Дымовым и с продавцом Володей Зыриным, все трое моментально свернулись; по их мнению, только бутылка рыковки на троих и могла помочь в такую минуту…
За стеной ветер опеть набирал силу. Теперь он дул уже с северо-запада.
VI
В толчее Кешиной избы, в горьком табачном дыму, в шуме и матюгах никто не заметил нового ветра, как никто не заметил и нового пришельца. А новый пришелец сидел на корточках среди подростков, прятался за кешинской голландкой под трубаками у самых дверей. Сидел, слушал, крутил цигарки, откашливался. На нем был пиджак из солдатской шинели и гимнастерка с отложным воротом. Новый хлопчатобумажный картузик для младшего комсостава с дырочками для проветривания — летний, лагерный. Незнакомец надел его на колено, обнажив молодую белую лысину, уже надвинувшуюся на самое темя. Бесцветные волосы на затылке и над ушами были подстрижены, голова казалась почти мальчишечьей. Да и сидел он не по-серьезному, на корточках, промеж гоготавших подростков. Один Селька Сопронов наблюдал за ним из другого угла, а больше никто не знал и не замечал невзрачного пришельца.
Когда ольховский парень-помольщик еще раз повторил сообщение про Данила да Гаврила, Киндя Судейкин хлопнул шапкой о грязный, изрезанный ножами стол:
— Ну, коли Пачина допекло, дак, видать, все! Сушите сухарики…
— А что мне твой Данило? — взметнулся Жучок. — Что? Он мене не укащик. Таким укащикам хер за щеку, у меня голова своя, а не коллективная. Пускай оне с Гаврилом вступают, а мне-то что?
Сиротский голос Жучка напрягся и по-мальчишески зазвенел, но голос этот заглушили иные возгласы:
— Остановись-ко, Сивирька, остановись, — говорил Новожилов, дер гая Жучка за карман. — Поостынь маленько, кому говорю.
Но Жучок стукнул по руке Новожилова:
— А чево это мне останавливаться? Чево поостынь?
— А тово!
— Каюк приходит, а я поостынь!
— А ничево не каюк! Вон погляди в Тигину-то. Тигарям и машины, и кредиты, и товары всякие. Оне вон двор в Коневке знаешь какой заворачивают? — вступился Митя Куземкин.
— Не в Коневке…
— Заворачивают пока одне.
— Правда. Как много колхозов-то будет, так и у их ничего не останется. Это нас через их заманивают.
— Была уж коммуна-то в Ольховице, была, матушка… Мы ее, миленькую, не забыли ишшо.
Незнакомец с белой лысиной вдруг подал от дверей голос:
— Гляжу я на вас, мужики, гляжу и думаю, темный вы народ…