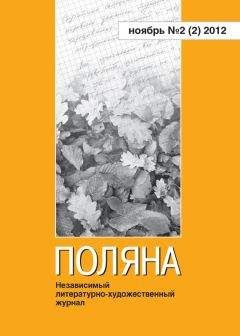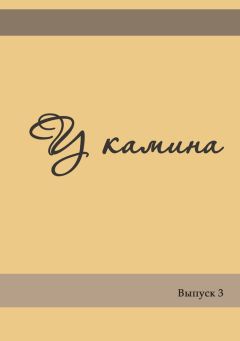Коллектив Авторов - Эта гиблая жизнь
«– Меняется что-то, бабуля, после взрыва у вас?
– А как же! Вот: перед крыльцом – верба росла. Так теперь она – груша!..»
«– Как радиация у вас тут, ощущается?
– Рация? С крыльца я смотрела, а она – летит. Летит-летит!» За дом, за угол, завернула, да вон там, на огороде, и села.
– ...И как же она летела?
– Так! Летела».
В Хойникском райисполкоме народу много. И снова никто не говорит о том, как воспользоваться оставшимся людям своим законным правом на отселение, на получение бесплатного жилья в другом месте. Говорят только о том, как жить здесь и чего им удаётся достигать в этих условиях.
Хоть прежний уровень по объёму производства восстановить невозможно – полрайона, всё-таки, пустует – однако, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, идёт его рост. Людей здесь переучивают для работы по новым, неведомым остальному миру, технологиям. Восстанавливаются предприятия. Работает консервный завод. Молочный расширяет производство и скоро будет переведён на двухсменный режим.
Утверждённые нормативы республиканского допустимого уровня радиоактивного заражения продуктов в Белоруссии жёстче общепринятых, мировых, в четыре с лишним раза. Если молоко им не соответствует, его перерабатывают в масло – выяснилось, что радиоактивные элементы уходят в сыворотку. А превышает готовая продукция принятые здесь нормативы – «голову снимут».
При заражённости свыше 111 беккерелей скот на мясокомбинате бракуют: не берут. Для иностранцев же с Запада всё, в чем меньше 500 беккерелей, это – прекрасная продукция. Германия недавно здесь скот закупала, отгружала за границу: по их стандартам это куда как неплохо... Зерно, допустим, превышает нормативы по радиации, по стронцию – так его уже на фуражные цели не используют. Оно идёт на переработку в спирт. А спирт получается чистым.
Здесь осуществляют разработанную учёными программу по реабилитации заражённых земель. Другая жизнь, другие заботы, незнакомые большей части человечества... «Если мы будем бояться – ничего не сможем сделать, – убеждён учёный А. Скрябин, – но если перелопатиться наше сознание и мы научимся безопасно работать на самых грязных землях, то решим раньше прочего мира такие проблемы, с какими остальное человечество неизбежно вплотную столкнётся уже лет через сто».
...Неужто Хойники – это будущее Земли? Зона будущего? Спокойные рассуждения собравшихся в кабинете людей чередуются с житейскими: до АЭС тут – рукой подать.
– Саркофаг, говорят, треснул?
– То, что саркофаг имеет много трещин, то это действительно так. Неуправляемый процесс идёт ядерный. Отсюда, со станции в Масанах, ведут наблюдение за поведением АЭС. И уровень радиации то повышается, то понижается: смотря в каком направлении она идёт... А вообще-то – один на один мы с этой бедой оказались...Гуманитарная помощь? Очень незначительная.
– Как считаете, закрыть надо станцию? – Конечно.
– А что думаете по поводу возможной угрозы со стороны других блоков?
– Не дай Бог – всё возможно.
...И снова – лесная дорога всё в том же направлении: на юг. Здесь не встречается ни машин, ни людей. Полное глухое безмолвие – километр за километром. Это – уже местность, где жизнь людей невозможна.
Пустые земли. Пустые леса. Пустые поля. Всё – будто в сонном оцепенении. Недалеко от дороги, в лесу – глубокое молчание ветвей, цветов, вершин высоченных деревьев и неба. И безрадостный солнечный свет над всем. И снова – дорога.
Наконец перед нами возникает шлагбаум. Колючая проволока на высоких столбах. Тридцатикилометровая. Та самая, мёртвая, зона первых отселений 1986 года.
Перед входом в неё измеритель гамма-излучения показывает 32 микрорентгена в час. Рыжая собака безвестной породы встречает нас, выбегая из зоны. И, повиляв хвостом, возвращается опять, ложась на прежнее место: на четыре метра позади будки охраны. Солдатик в камуфляже, после коротких переговоров, поднимает шлагбаум.
По ту сторону шлагбаума дозиметр заходится писком. 142 микрорентгена в час. Это – рядом с лежащей собакой.
– Как собаку вашу зовут?
Солдатик у шлагбаума смаргивает от неожиданности:
– ...Вермут.
Метод охраны здесь – вахтовый: службу нельзя нести постоянно.
Мы едем дальше, в глубь Тридцатикилометровой. Дикий могучий лес поднимается до неба стеной. Лесной край общих славянских предков – родимичей. Край извечных героев-защитников. Непроходимый лес – укрытие от врага... Лес – колыбель. Лес – могила.
– ...Птицы-то здесь поют?
Представитель из Хойников солидно кивает с заднего сиденья: – Поют без вопросов.
Спустя время промелькнула в отдалении пустая ферма совхоза «Победа социализма». Белая. На пригорке.
– ...Здесь есть пятна, где тысяча идёт по цезию. А111 беккерелей на метр – всё: предел... Плутониевые, стронциевые, цезиевые пятна. Всё, что вокруг, грязное.
В машине никто больше не разговаривает. Не скоро возникает впереди деревня, издали – будто живая. Но пусты дома, пусты заросшие высоким бурьяном дворы.
Мы выходим на улицу, где тропы и дорожки давно затянуло травой. Есть нечто грозное в глубокой тишине оставленных селений, под голым солнечным светом.
– Богатая деревня...
– Богатая. Была.
Однако один из домов, небольшой, особенно ладный и добротный, словно ещё жив той любовью, с которой строился своими хозяевами и обживался. Время, охватившее прочие дома на деревенской улице вечным и крепким сном небытия, щадит ещё этот – уютно утопающий в кустах сирени. Беспрепятственно открывается незапертая низкая калитка. И даже тропу в дом не до конца ещё одолел дикий непролазный бурьян.
Журавель застыл с чистым ведром, опущенным почти до земли. Глубокий колодец в кустах по-прежнему отражает бездонное небо. Но 12 лет не колеблется эта вода под ним.
Двор с добротными строениями, который снится кому-то по ночам каждой своей прилаженной полкой. Лукошко на лавке. Высокая поленница дров, прилежно выложенная под навесом, так никем и не потревоженная. На верёвке сушится постиранный двенадцать лет назад половик – домотканный, сплетённый искусно из алых и голубых полос крашеного хлопка. Сушится зимой и летом. Сушится вьюжными ночами, тёплыми вечерами. Второй десяток лет. Стрекот дозиметра здесь част до нестерпимости – 216 микроренттен.
– Мирный атом в каждый дом... – негромко говорит Сергей и выключает его.
В доме без штор – жёлтый полуповаленный, добротный – на всю семью – шкаф. Белокурая оставленная кукла, глядящая вверх, в потолок. Чей-то ученический портфель, брошенный на полу. Поверх кучи бумаг и документов – расправленная Почётная грамота: «Награждается коллектив работников средней школы № 22 деревни Погонное за успешное выполнение третьего квартала 198 5 года».
На кухне – большой порядок. Белые чистейшие тарелки, составленные одна к одной. Белые блюдца. И во все пустые стёкла окон ломится со двора зацветающими гроздьями улыбчивая весенняя сирень. Её сажали для радости живущих в доме – для тех, которых давно здесь нет. Не понимает сирень, прижимающая новые свои цветы к самым стёклам, что и в эту весну радовать ей тут – некого.
Белая огромная печь напротив входа всё ещё по-прежнему опрятна. На припечке – большая настенная фотография. Её, должно быть, хотели взять с собой, но в последний суетный момент пристроили здесь, точно напротив входа. Красивая женщина и сильный мужчина, чуть прислонившись друг к другу плечами, внимательно смотрят с неё на дверь. На женщине – платье послевоенного фасона, с капроновым узорчатым белым воротничком. Он – в нарядном новом костюме с полосатым галстуком, завязанным большим узлом... Здесь понимается само собою: ими строился этот дом, для детей и внуков, удобно, красиво – на долгую жизнь поколений. Тринадцатый год внимательно смотрят их молодые глаза – мужа и жены, матери и отца – на не открываемую никем входную дверь. В избе темнеет, светает, снова вечереет. Но не заходит никто. Родители... Остались всё же в своей пустой избе, совсем студёной, должно быть, по зимам. Одни. На фотографии.
Но вошли ненароком – мы, чужие, непрошенные. Простите. Оставайтесь...На сколько ещё лет? На триста?...
И мы прикрываем дверь снова. Поплотнее.
И снова – двор, и ослепительное весеннее солнце. Бочка, заботливо прикрытая мешком, у сарая. Огромная ступа, старинная, в которой веками толкли то зерно, то конопляное семя, да вдруг перестали. Потому что однажды, в одночасье, здесь перестала длиться жизнь... Да что же это – сирень, так и тянется молодыми ветками, так и смотрит лиловыми гроздьями – не на солнце, нет, не на улицу – а только вся – туда, в тёмные окна без занавесок? Разве же так бывает?
Я не очень понимаю после этого, куда и сколько времени мы едем. Тринадцатый год и тринадцатый день идёт после аварии – вот он.
– ...Тринадцать-двенадцать километров осталось до реактора. Может, хватит? – спрашивают с переднего сиденья.