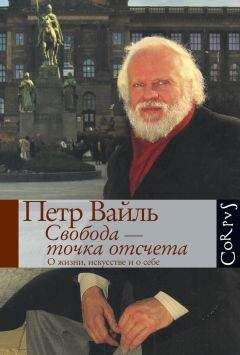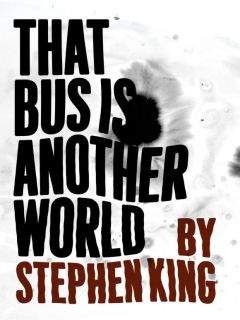Петр Вайль - Гений места
Миновав языческую церковь на улице первой любви, у площади Трех мучеников мы свернули на Корсо д'Аугусто, тянущуюся во всю небольшую мочь от арки Августа до моста Тиберия. Этот отрезок улицы, с некрасивыми домами и кривой булыжной мостовой, Феллини растянул на всю свою долгую жизнь. Так поступаем и мы все: тянем резину переулков и поездов, пережевываем слова и поцелуи, мусолим записки и ксивы. Только Феллини, в отличие от нас, удалось сделать глухомань своего частного детства взрослым переживанием миллионов посторонних.
Когда талант прозревает бездны в бытовой чепухе, естественно не поверить в эту пустяковость. Постельный режим Пруста, контора Кафки, полторы комнаты Бродского — возникает завистливое подозрение, что все не так тривиально и обыденно, коль скоро из такого сора такое выросло. И когда появляется шанс проследить генезис красоты, пренебрегать им не следует — хотя бы для того, чтобы убедиться: сор. Из восьми десятков итальянских городов, где мне приходилось бывать, Римини — едва ли не самый провинциальный и унылый.
На главной улице, навсегда заворожившей Феллини биением настоящей жизни, — вялое передвижение даже в субботний вечер. Завсегдатаи кафе «Коммерчо» не глазеют на «легендарную грудь» Градиски — триумфальным маршем прошедшей в красном беретике через весь «Амаркорд». И немудрено — нет Градиски, нет и кафе «Коммерчо»: на его месте возле площади Кавура даже не «Макдоналдс», что в контексте Римини выглядело бы оживляющей экзотикой, а стандартная кофейня с непременной группкой молодежи, запарковавшей свои оглушительные «веспы» у дверей. Подальше от мотороллеров ближе к середине площади, у фонтана делла Пинья, непременные старики верхом на стульях чугунного плетения.
Таков в принципе интерьер любого итальянского города, если этот город не Рим и не Венеция, но подобная вязкость обычно клубится и тянется в некоем известном направлении, и, волочась по узким улицам, рано или поздно выплескиваешься на плоское и широкое место, с собором и каштанами, откуда не хочется уходить никогда.
В Римини пришельца ничто особенно не удерживает, что никак не развенчивает образ города, запечатленный Феллини: «Сочетание чего-то смутного, страшного, нежного». Просто у всех свой Римини.
Здесь для него началось и кино. Мы заглянули в «Фульгор»: юный Феллини ходил в этот кинотеатр — «жаркую клоаку» — с пышным названием («Сияние», «Чертог»?) бесплатно, в обмен на «карикатуры на кинозвезд и портреты артистов», которые рисовал для хозяина. При нас в «Фульгоре» шли два фильма — «Небо и земля» и «Ценности семьи Аддамс», оба американские.
Оплакав патриархальность и сделав скороспелые выводы, я пересмотрел «Амаркорд». Там мелькает «Фульгор», и можно разглядеть афиши: в кинотеатре шли два фильма — один с Нормой Ширер, другой с Фредом Астером и Джинджер Роджерс (кивок Феллини самому себе в будущее, в картину «Джинджер и Фред», снятую 12 лет спустя). Похоже, в мире никогда по-настоящему не было иного кино, кроме американского, и как быть с разгулом «культурного империализма»?
Мы проехали по мосту Тиберия, кажется, самому старому действующему мосту в мире, пересекли обмелевшую сизую Мареккью. Впереди поднялась стена — та самая, возникавшая в «Амаркорде» на похоронах матери героя, желто-серая, с торчащими над ней кипарисами. Таксист довез нас до «чимитеро» и теперь хотел знать, с какой стороны лучше подъехать. Я объяснил: с той, откуда ближе к могиле Феллини. «Феллини? Non lo so. He знаю», — спокойно сказал водитель, раскачиваясь в такт знакомой до боли в ушах музыке. Ценности семьи Аддамс торжествовали.
Служитель кладбища все, конечно, знал: сектор «Левант», аллея О (буква? цифра?). Но тут перед воротами начался «феллини» — балаган, в соответствии с книгой «Делать фильм»: «Чудесным уголком в Римини было кладбище. Никогда не видел мест менее печальных… Я увидел там много знакомых фамилий: Баравелли, Бенци, Ренци, Феллини — все они были наши, риминские. На кладбище постоянно что-то строили: каменщики, работая, пели, и это создавало какую-то праздничную атмосферу».
В этот раз каменщиков не было, но на микроавтобусах подъехали цыгане, должно быть, в разгар таборного торжества. Они не отличались от тех, которые жили в Слоке, дальней станции Рижского взморья, и наводили ужас на танцплощадки: все говорили, что если девушка не идет с цыганом танцевать, он сразу отрезает ей бритвой нос. Как они отрезали хвост киту, я помню хорошо — этот случай внесен, вероятно, в мировые ихтиологические анналы. Единственный раз в истории на взморский пляж выбросило кита, и туда ринулись ученые разных стран, не понимающие, как он мог попасть в почти пресный Рижский залив. Но раньше всех поспели с двуручной пилой цыгане и с гиканьем увезли хвост на бричке. К прискорбию научного мира, найден он не был. Теперь цыгане распевали на Адриатике точно такие, как на Балтике, песни, играя на тех же инструментах, потом опустошили все ведра у цветочниц и с гиканьем умчались на «фиатах».
Феллини не отказался бы от такого эпизода (а лучше обоих), если б цыгане вовремя доехали в Римини. Разумеется, если б он увидел их сам: наяву или в воображении, что при силе его воображения практически одно и то же. Принцип пережитого, точнее выстраданного, царит в его картинах, всегда посвященных одной проблеме — своего сосуществования с окружающим миром. Попробовав решать за других в «Il Bidone» и выносить нравственные суждения в «Сладкой жизни», он отказался от того и от другого. Даже в «Репетиции оркестра», которую принято трактовать публицистически, Феллини занят проблемами современного общества не более, чем дедушка Крылов в «Квартете», написанном по поводу министерских разногласий, о чем скоро и справедливо забыли. В «Репетиции оркестра» дирижируют вневременной разброд и повсеместная несовместимость.
Алогичность жизни и невозможность достижения какой бы то ни было гармонии явно восхищали Феллини. «Озабоченность гастро-сексуальными вопросами» — так он определял духовный кругозор своих персонажей, и в этой шутке для журналистов — программная установка на всю полноту бытия. Полноту как хаос, как действие разнонаправленных сил, из которых более всего интересны неизученные и непредсказуемые: оттого он так держался за карнавал, за безмолвных глазастых девочек в белых платьях, за клоунов, за музыку Нино Рота, от первых тактов которой начинали приплясывать цирковые лошади.
Это понимание жизни определяет разницу между цирком Феллини и цирком Чаплина. Последовательный рационалист Чарли вносит в хаос логику: абсурден мир, а не он. Потому так страшен и правдоподобен его «Великий диктатор», доводящий до предела художественный рационализм: следует безжалостно убрать все, что мешает сюжету и композиции. Следствие такого подхода — декларативный минимализм Чарли: пообедать можно вареным ботинком, а станцевать булочками, коль нет музыки, костюма, обуви (съел?) и партнерши. У Феллини танцуют и едят все со всеми и как попало: он никогда толком не знает, что делать и кто виноват, его клоун — не умный и расчетливый «белый», а непременно «рыжий», побитый и переживающий.