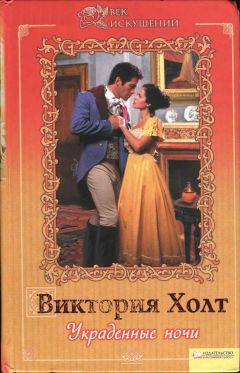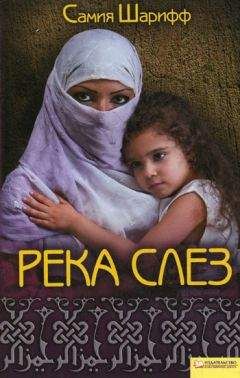Елена Катишонок - Свет в окне
Если бы его спросили, какой была их жизнь вдвоем, ответил бы, не задумываясь: ровной. Ровной и одинаковой изо дня в день.
Чувствовала ли Настя с ним такое же одиночество? Трудно сказать; он и не спрашивал ни разу: срабатывал запрет, потому что одна тема неизбежно повлекла бы за собой другую. Наверное, Настя жила со своей болью так же обреченно-спокойно, как он со своей виной. Да вряд ли ее интересовало мнение мужа-неудачника – человека, ничего в жизни не добившегося, а главное, не стремящегося добиться. Она мечтала поехать на Черное море, провести отпуск в пансионате, почему-то для Насти это было очень важно, – не поехали. Не поехали и в Грузию, и в Армению, но туда Настя и не рвалась, а в пансионат… Может, отпуск на Черном море примирил бы ее с мужем-неудачником? Сейчас уже не имеет значения, но и от этого несостоявшегося отпуска осталось чувство вины. Какое значение на фоне этих грехов имело его плоскостопие, о котором он боялся ей сказать?
Только теперь, бродя по малолюдным улицам и переулкам, он понял, как одинок был до появления сына. Ребенок, закутанный в пеленки, подолгу спал, все еще во власти безмятежного своего бытия в материнской утробе, и только открывая внезапно глаза, в бессмысленном ужасе таращился несколько секунд в потолок, после чего снова засыпал. Просыпался, открывал глаза, хотя смотреть еще не умел, осмысленный взгляд появился позже, но он жил, крохотный росточек, и Карлу делалось страшно от беспомощности, незащищенности этого маленького тельца.
В одну из тех первых недель к ним зашли Алик Штрумель с женой. Пока женщины возились с малышом, они с Аликом ушли на балкон покурить. «Знаешь, когда наша Динка вот такая же была, – Алик кивнул в сторону комнаты, – я тоже сходил с ума от страха. Боялся, что с ней что-то неправильно, раз так много спит. Аська смеялась: ты, говорит, грудью покормить не хочешь? А я не понимал даже, как она может смеяться, представляешь? И ночами вставал: мне казалось, вдруг Динка не дышит?! Это потом уже, когда она постарше стала, пустышку выплевывала и вопила по ночам, мы мечтали только об одном: выспаться. Так что у тебя все впереди, поздравляю!»
Карлу показалось тогда, что Алик говорит не о себе, а о нем, и слова: «я тоже сходил с ума от страха» подтверждали это. Потому что ночью он действительно вставал – осторожно, чтобы не разбудить Настю, и шел к кроватке малыша. Дышит, живой? И стоял некоторое время, вслушиваясь в бесшумное дыхание ребенка. Живой. Знай, что я здесь; я рядом с тобой.
Когда-нибудь, когда Ростик станет взрослым, он расскажет ему про свой страх. И про многое другое, о чем пока рассказать не успел. Мальчик умеет слушать; найдет ли он, отец, правильные слова?..
Сейчас он не мог оказаться рядом с сыном, но тем больше можно будет ему рассказать при встрече, и Карл мечтательно копил воображаемые разговоры с мальчиком, ловил себя на том, что время от времени начинает бормотать что-то вслух.
Так, в мысленных беседах с Ростиком, делал круг и возвращался домой. Он постепенно привыкал к новой квартире и приучал ее к себе, как новый хозяин приучает собаку или кошку. Привыкал к новым звукам: дверному звонку, к акустике комнат, почти не заполненных мебелью, – только самое необходимое. В раковине что-то булькало, словно кто-то полоскал на кухне горло. У крана тоже обнаружились капризы: включенный, он рокотал, потом гневно трясся, и только после этого ровной струей текла вода. Коварство холодной кладовки, о которой предупреждала прежняя хозяйка, в июне обнаружить было трудно.
Приехав в очередной раз к матери, застал ее в постели. Не звонила – не хотела беспокоить. Слабость, лихорадит немножко: «Ничего страшного, пройдет». С трудом уговорил поехать в поликлинику и остался ждать в коридоре.
В летний субботний день народу в поликлинике было мало. Над окошком регистратуры висел транспарант: «МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!». А в другое время, подумал Карл, медленно шагая по коридору; после еды, например? Здание было старое, с трещинами на потолке и лысыми, истончившимися от бесчисленного множества шагов половицами. У одной стены стояла длинная грубая скамейка, у противоположной – венские стулья, выкрашенные в белый цвет; краска на них лупилась, как яичная скорлупа. Стенные панели, некогда из темного дерева, тоже были покрыты масляной краской, но не белой, а коричневой.
Газету Карлушка купить не успел и теперь бездумно пялился на большой плакат, висящий над скамейкой. Там на фоне голубого неба красовалось дерево с пышной листвой. Несмотря на густую крону, дерево тени не отбрасывало, но прямо под ним был нарисован улыбающийся малыш, доверчиво тянувший вверх пухлые ручки. Если бы ребенок умел прочитать зловещую надпись: «ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩ ОПАСЕН», то бежал бы от дерева со всех ног. Однако в аквамариновое небо был вляпан густой желток солнца, зелень листвы успокаивала глаз, а самого клеща видно не было.
Ростик никогда не был пухленьким, даже в самом умилительном возрасте. Узкоплечий, худенький, он всегда вызывал тревогу взрослых, особенно Ларисы, которая провожала ревнивыми взглядами увесистых и полнокровных чужих детей.
Ростик, росточек мой. Водится ли в ГДР энцефалитный клещ?
Дежурный врач, молодой румяный парень, оживленно говорил по телефону. Ларисе захотелось уйти, но решиться не могла и продолжала стоять у двери. Врач говорил, улыбаясь и скользя взглядом по кабинету, столу с бумагами, окну и стоящей женщине. Взгляд не менялся; он кого-то ласково убеждал – девушку, наверное. «Чао!» – сказал на прощанье и кивнул Ларисе: «Проходите. Что у вас?»
Послушал легкие, что-то записал. Стряхнув термометр, велел измерить температуру. Все свои действия врач совершал, пританцовывая одной ногой, отчего мелко дергалась коленка. Больной, что ли, подумала Лариса. Пока она держала градусник, врач скучал и начал негромко насвистывать какую-то мелодию; нога дергалась в такт. Здоров, как бугай.
Посмотрел на градусник, потом на Ларису. Она приготовилась уходить, однако врач протянул бумажку: «Рентген-кабинет на третьем этаже. Потом опять ко мне».
На третьем этаже пришлось ждать в очереди: старушка с опухшей стопой и зареванный мальчуган лет семи с безжизненно висящей рукой, окруженный растерянными родителями. Мальчик совсем не был похож на ее внука, но сердце защемило от горечи. Не надо было сюда приходить, не надо.
Получив упругие тяжелые снимки, Лариса вернулась к дежурному врачу.
Кроме пневмонии, врач нашел у матери нарушение сердечного ритма и настоятельно рекомендовал покой. В ближайшее время нечего было и думать о возвращении в деревню. Лариса, и без того не любившая свою комнатенку, должна была в ней оставаться в жаркие летние дни и принимать таблетки. Внезапное обилие лекарств ее пугало.