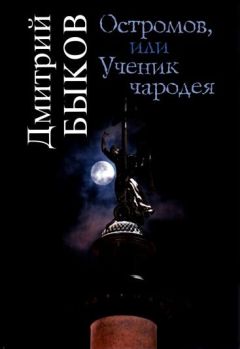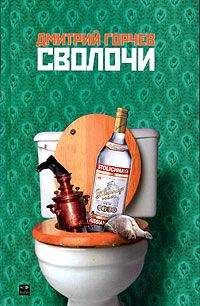Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Он думал уже — не влюблен ли он в нее? Смешно, нет, конечно. Он просто не мог мириться с ее существованием — да, в сущности, любая любовь и есть это самое, нечего выдумывать. Райский это знал по себе. Мы встречаем нечто безоговорочно прекрасное, а поскольку в силу блестящего интеллекта мы очень знаем, каковы мы есть, то и пытаемся убить это прекрасное единственно доступным способом: сделать его своим. Ведь этого никакому врагу не пожелаешь. Сотрудник отдела по борьбе с бандитизмом Жамкин женился давеча на дочери бывшей графини Потоцкой, и это считалось хорошо — дома у сотрудника розыска должно быть культурно; но ясно же было, что никакая расправа с графиней Потоцкой не могла сравниться с превращением ее в Жамкину. Так что, если хотите, отношения Райского с Жуковской были выше и чище любви. В них не было и тени корысти. Но просто Райский не мог спать спокойно, пока Жуковская не стала одной из всех, ибо ее присутствие на свете посягало на основы его бытия. В ее присутствии он был непонятно кто. Он мог жить дальше лишь при условии, что она возненавидит себя и уверится в невозможности быть человеком.
В декабре она держалась, в январе поддавалась, но была еще крепка. Он понимал, что никакой шантаж не сработает, что угроза ареста матери не годится, потому что с этой перспективой она считалась с самого начала, а любовника у нее, насколько он мог заметить, не было. Вообще шантажировать было особенно нечем. И лишь к февралю Райский выдумал мизансцену, которая была достойна «Королевы Марго», да оттуда, собственно, и почерпнута. Он представил себе это и подпрыгнул на кровати: ай да я! Марго проснулась, испугалась: что, зая? А, да спи ты, грубо ответил он. Ай да я!
3Страшнее всех была Махоточка. Наде казалось, что Махоточка знает про нее все. Стоило Наде подумать о себе худшее, как Махоточка выговаривала это вслух; а не думать Надя не могла.
Первую неделю она не понимала, что происходит. После ареста всегда наступает период «недоразумения» (разъяснится — выпустят). Самое страшное сознание — что недоразумений не бывает, что даже арестованный по ошибке попал сюда не просто так. Она столкнулась с иллюстрацией: уже в ноябре, когда она кое-что понимала, к ним в камеру впихнули Баталову, гордую, презрительную, всем видом говорившую: вас по делу, а меня так. И что же оказалось? Оказалось, что надо было Бодалову, спекулянтку, а Баталова была ни при чем; но выяснилось гораздо худшее. Баталова-то была шпионкой. Она описывала в дневнике, как строится новая верфь; для кого описывала? — естественно, для врагов. Надо успевать садиться за спекуляцию или иной нестрашный грех, потому что если у тебя вовсе нет грехов — расплачиваться придется за небывший, страшнейший, за тот, который они выдумают. Знала бы — воровала бы. Ведь они выдумают страшней, чем ты. Поэтому Баталовой, если бы она была умная, следовало согласиться, что она Бодалова, спекулянтка, и получила бы она свои два, а то и просто ссылку, но она радостно закричала: Баталова, Баталова! — и села за дневник, потому что не выпускать же.
Через неделю Надя уже знала, что просто так не выпустят, и надеялась выдумать себе вину полегче, потому что Райский не говорил ничего. По нему нельзя было понять, чем именно он так оскорблен, — а вел он себя именно как тяжело оскорбленный человек. Если верить ему, она не смела дышать одним воздухом с ним, и разрешение сидеть в его присутствии уже было фантастическим одолжением. Казалось, что вина Нади продолжает расти с каждым днем: она сидит в Крестах, в пятнадцатой камере первого корпуса, а вина растет. Иногда во сне, в полубреду, в зловонном холоде она придумывала вовсе уж страшное: что все это время Даня пытается выцарапать ее отсюда, но все его усилия пресекают, разоблачают, и отыгрываются на ней. Даня не мог сидеть сложа руки, наверняка он что-то делал, наверняка знал от матери, где она и что с ней, и теперь готовит побег или ищет связи, не знаю; но тогда она понимала, что хватит мечтать, что он скорее всего взят и, может быть, уже убит. Он был слишком хорош, чтобы терпеть то, что терпит она. Она терпит измывательства Махоточки, и разговоры о своем барстве, праздности и тунеядстве — в этом особо усердствовала Алексеева, — и гнусные расспросы Паршевой о том, как енто делается у образованных, и плевки буйной Носовой, и то, что ее передачу жрет Ахрамова. Даня ничего этого терпеть бы не стал, и его уже убили, наверное.
Не сказать, чтобы она вовсе не пыталась сопротивляться. Поначалу еще были припадки — именно припадки — гнева и даже иронии. Сначала была злость, и глупы были те, кто считал Надю Жуковскую доброй: о, они просто ее не знали. Она бывала удивительно, непримиримо зла, просто быстро остывала, но это слабость характера. А так-то она умела и драться, и ненавидеть, и помнить чужие подлости. Она никогда не могла простить Полозовой раздавленного просто так жука. Есть вещи, которые нельзя. Лучше бы Полозова ударила кого угодно, хоть Надю, но давить жука не было никакой необходимости. Полозова вообще была дрянь. Надя была страшно зла, когда Семен ругал попов, когда Илья сразу заснул, когда Стечин начал доказывать, как хорошо стало, потому что все главные русские вопросы упразднены, а от них-то и были все беды, и поэтому, товарищи, да здрявствует советская влясть! Она была зла не на то, что он это говорил, а на то, что он так не думал. Михаил Алексеевич сказал: Надя-то наша, какой умеет быть свирепой! Вас, Наденька, Македонский взял бы в авангард (он как раз писал тогда о Македонском), в гетайры. Не в гетеры — в гетайры! Знаете, как отбирались? Кто бледнеет от гнева, тот трус, кто краснеет — тот боец. И если он так говорил, значит, бойцовское в ней было; только драться она не умела совершенно. Наверное, если бы Махоточка ударила ее, она в ответ, потеряв самообладание… но они не били, не было команды. Они изводили, и не поймешь еще, чем страшней: когда приставали с разговорами к ней или когда говорили между собой. Тогда душа ее погружалась в серный ад, и по вечной ошибке нормальных людей она думала, что этот ад и есть единственная правда.
Но чтобы сохранить гнев надолго, превратить его в позвоночник, — надо было отречься от себя, похоронить надежду, а это значило бы отказаться от имени. Она так не могла. Навыка ненависти, вот беда, не было у нее совершенно. Ей почти не приходилось этого делать. Она была слишком здорова. Ненавидеть умеет Райский. Ей и хотелось возненавидеть, гордо отвечать, насмешничать, — но это была бы не она. И вдобавок страх: очень скоро ей стало казаться, что с ней можно сделать все. Многим так казалось в Крестах, особенно из числа книжников. Воображение разыгрывается, клаустрофобные ведения преследуют днем и ночью, и кажется, что ты можешь здесь остаться навеки, и тебя не вытащит никакая сила. Ведь были узники, о которых забывали. Были потерянные дела — у этих все теряется, — а были просто более важные заключенные, и потому о невиновных забывают почти сразу. Они ведь неопасны, могут подождать. Сначала надо с убийцами, с действительными, может быть, врагами, — с теми, кто реален. И взятый за булку, за случайное слово, за компанию, — седеет, сгибается, приобретает цвет и ослизлость тюремных стен; и когда его выпускают через пятьдесят лет, слепого, забывшего свое имя… Она слишком много читала, теперь это мстило. Но, как все многочитавшие, она понимала главное (в том и разница между читавшими мало и много, что малочитавшие видят плоть мира, а многочитавшие — его скелет): сидеть легче виновному. У него есть твердый камень вины, на который он может стать и отстаивать эту вину, как единственную свою правду. А невиноватому сидеть плохо, потому что он виноват во всем. Это как белый лист, в котором есть возможность всякого слова. Вор есть вор, он отвечает за свое воровство. А невиновный может стать кем угодно, от насильника до убийцы; кем захотят, тем и сделают. И особенно оглушал ее запах гнилой капусты, которым в Крестах было пропитано все. Ничего нет безнадежнее этого запаха.
Ей представлялось вечное сидение тут, в полной выключенности из мира, в медленном превращении в такую же, как полубезумная старуха Забродина, ее потом забрали, как говорили тут, на больничку. Забродина была старая воровка, вдобавок пьяница, и когда ее в последний раз выпустили, она попросту не знала, куда пойти. Пришла сдаваться добровольно, наврала на себя что-то. Она не помнила ни детства, ни молодости, имя свое понимала с трудом. Она была идеальный продукт тюрьмы, ослепший пещерный житель. Ее все любили, Забродину, Махоточка ее заботливо укутывала, звала мамочкой. Махоточка была ласковая. Махоточка звала ее также заечкой. Мамочка, заечка. Когда из нас сделают то, чем мы должны быть, — к нам будут ласковы. Но сначала мы должны дойти до кондиции. Надя знала, что человек, попавший в Кресты, как бы они ни назывались, человеком быть перестает — российская тюрьма такова и была такова во все времена: это другая сущность, особая. Если повезет, если сил хватит — ты вырастешь в тюремного бога, адское божество, готовое на все и ко всему; если нет — станешь тюремной слизью, и чтобы этого не произошло, у тебя должен быть особый тюремный бугорок, он ей однажды приснился в путаном, рваном, капустном сне. Есть бугорок любви и бугорок денег на ладони, под пальцами, ей гадала однажды цыганка, грех, но не прогонять же, стояла жалкая, с дитем. Дай погадаю. Погадала. Бывает бугорок искусства, бугорок математики. Должен быть бугорок тюрьмы: либо ты можешь превратиться в нечеловека со знаком плюс, либо никак. Страшно, страшно быть нечеловеком. Страшнее всего было по утрам. У Нади не было бугорка тюрьмы, и к декабрю у нее не стало сил. Она еще не понимала этого, но знала.