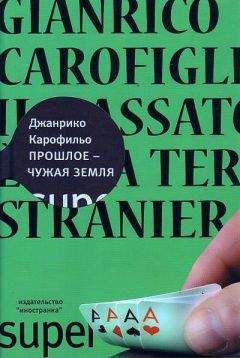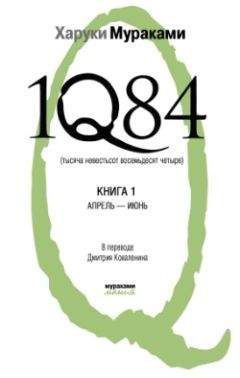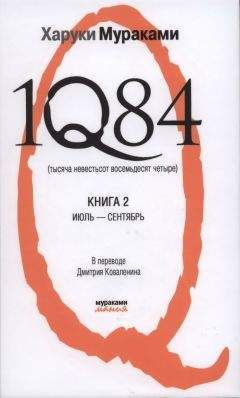Три часа ночи - Карофильо Джанрико
Итак, мы заказали две чашки кофе — вероятно, худшего за время нашего пребывания в Марселе, и продолжили болтать. Всю свою предыдущую жизнь я почти не интересовался тем, что за человек мой отец. Теперь же вопросы сыпались из меня один за другим:
— Каким ты был в моем возрасте?
— Не знаю. О себе рассказывать сложно. Я давно заметил: если просишь близких, чтобы они тебя описали, ничего путного у них не выходит. В лучшем случае перечислят пяток стереотипов, с которыми ты у них ассоциируешься. А может, произнесут ложь, в которую им самим важно верить.
— Допустим. Тогда скажи, что тебя увлекало в те годы?
— Музыка и математика. Я мечтал быть джазовым пианистом и великим математиком. Будем считать, и первое, и второе мне удалось максимум наполовину.
— Как так?
— Джазового пианиста из меня не вышло, а математиком я стал разве что хорошим. Я мечтал войти в историю как тот, кто доказал теорему Ферма, но эта мечта не сбылась, и теперь уже никто не помнит о моих скромных выкладках.
— Кто такой Ферма?
— Французский математик и юрист, живший в семнадцатом веке. В прошлые времена часто случалось, что один и тот же человек был и юристом, и математиком. Однажды мой друг, профессор гражданского права, сказал, что для настоящего понимания юриспруденции необходимо иметь особый склад ума, очень напоминающий математический. Я отреагировал на его замечание скептически, а он в ответ процитировал великого польского математика Стефана Банаха. По мнению Банаха, хорошие математики видят аналогии, а великие математики видят аналогии между аналогиями. Блестящее определение! Мой друг добавил, что оно применимо и к юристам: хорошие подмечают аналогии, сходства и отличия, великие — аналогии между аналогиями. Короче говоря, эти люди способны перевести обсуждение на совершенно другой уровень. Так вот, вернемся к Ферма: он сделал ряд важных открытий, но вечную славу ему принесла теорема, для которой он якобы нашел поразительное доказательство. К сожалению, писал Ферма, поля книги, на которых он его выводил, были слишком узкими, чтобы вместить текст целиком. Не знаю, удалось ли ему на самом деле доказать свою теорему, у меня есть много сомнений на этот счет, но с тех пор над ней бьются математики всего мира. Увы, по сей день никто не сумел ответить даже на вопрос, доказуема ли теорема Ферма. По этой причине многие ученые предпочитают называть ее не теоремой, а гипотезой.
— Я правильно понял: он доказывал ее на полях какой-то книги?
— Да, «Арифметики» греческого математика Диофанта Александрийского.
— И дело было в семнадцатом веке?
— В одна тысяча шестьсот тридцать седьмом году.
— И с тех пор теорему так и не доказали?
— Возможно, кто-то подошел к ее решению ближе, чем другие, но однозначного доказательства не было и нет. При этом учти, что алгебраические инструменты, которыми мы располагаем сегодня, куда более мощные и точные, чем в эпоху Ферма.
— Ты когда-нибудь подходил близко к решению?
— Мне часто казалось, что да, но всякий раз я ошибался. Двадцать лет пыхтел, а потом бросил. Как ни крути, математика — спорт для юных атлетов. — Он помолчал с полминуты. — Но рано или поздно кто-нибудь докажет теорему Ферма. Пока что это удалось сделать только персонажу одного художественного произведения.
— Какого?
— В последнем романе Орианы Фалаччи, который я, правда, еще не читал, главный герой умудряется доказать теорему, но, поскольку он сидит в тюрьме, в одиночной камере, и у него нет ни бумаги, ни ручки, записать решение он не может и, увы, все забывает.
— Такое возможно?
Папа задумался.
— Видишь ли, пути гениальности бесконечны, внезапная догадка является фундаментально важной частью многих научных открытий, в том числе математических, но, скажем так, очень маловероятно, что она возникнет, если ей не будет предшествовать долгий инкубационный период, который, по сути, представляет собой много часов работы с бумагой и карандашом в руках. Впрочем, если отвлечься от художественной литературы, сотни математиков мира на определенном этапе своих рассуждений были твердо уверены, что доказали гипотезу Ферма, но потом сами или с чьей-нибудь помощью понимали, что их выводы ошибочны.
— Почему математика так важна для тебя?
— Точнее сказать, не важна, а была важна. Я понял это лишь несколько лет назад, когда прекратил попытки доказать гипотезу Ферма. Я любил математику, потому что наслаждался ее красотой. Практические аспекты того, что я изучал или пытался сформулировать, меня не интересовали. Единственным критерием была красота. Чистая и простая красота. — Он снял очки, прищурился и протер их. Протянул руку к своей чашке, но, должно быть, вовремя вспомнил тошнотворный вкус кофе, который был в ней, и положил ладонь на стол. — Тогда же, несколько лет назад, я понял, что математика была для меня еще и инструментом успокоения тревоги, борьбы с тоской бытия и его непредсказуемостью. Защитой от страха. В немецком языке, который, кстати, является одним из самых точных языков современности и в котором практически для каждого понятия есть отдельная лексическая единица, для обозначения тревоги, боязни и страха употребляется одно общее слово: Angst. Подобным образом математика служила мне защитой от страха, лекарством от хаоса и способом его укротить. — Отец сделал паузу. Думаю, его остановило изумление в моих глазах. — Антонио, с тобой все хорошо?
— Да. Просто поймал себя на мысли, что никогда не ожидал услышать от тебя такое.
— Ни один из нас не ожидал, что мы окажемся в той ситуации, в которой сейчас находимся, и будем обсуждать то, что сейчас обсуждаем. Это к во просу о непредсказуемости и неуправляемости.
— Ты прав. Продолжай, пожалуйста.
— Многим математикам, даже если им не хватает смелости сказать об этом прямо, нравится считать, что все в мире можно свести к символам и формулам. Я и сам раньше был убежден, что Вселенная имеет математическую структуру, нужно просто ее обнаружить.
— Но это не так?
— Не так. Математика не предшествует математическим открытиям. Это система, которая объясняет многое, но не все. — Он помолчал. — Ты следишь за моей мыслью?
Я кивнул.
— Математики любят чувствовать свое превосходство. Есть одна байка, которая великолепно это иллюстрирует.
Тут к нам подошел белый песик с черными пятнами, фокстерьер-полукровка. Он позволил себя погладить, с достоинством виляя хвостом и выражая дружелюбие, но не демонстрируя ни малейшей покорности.
— Tati, viens içi [4], — позвала его коротко стриженная дама, словно сошедшая с одной из картин Модильяни.
Песик убежал.
— Ты знаешь, кто такой Тати?
— Нет.
— Так звали одного французского комедийного актера. Его шутки были высокоинтеллектуальными и сюрреалистичными. Он умер в прошлом году. — Отец перевел дыхание. — Твоей маме он нравился.
Упоминание о маме на время погрузило нас в молчание.
— Так вот, байка. Астроном, физик и математик едут по Шотландии на поезде. Проезжая через поля, они видят за окном черную овцу. Астроном восклицает: «О-о, как интересно — овцы в Шотландии черные!» Физик укоризненно качает головой: «Вы, астрономы, в своем репертуаре. Одни обобщения на уме. На самом деле единственное неопровержимое утверждение, которое мы можем сделать, таково: в Шотландии обитает по крайней мере одна черная овца». Математик оглядывает их обоих, вздыхает и поучительным тоном изрекает: «Право же, не знаю, как вас обоих назвать. Все, что мы можем сказать, это: в Шотландии есть по крайней мере одна овца и по крайней мере один бок у этой овцы черный».
Я сказал, что это хорошая шутка, таким тоном, который позволил мне почувствовать себя взрослым. Отец подтвердил, что шутка и вправду хороша, что ее наверняка придумал математик, ну или хотя бы логик и что она точно отражает отношение математиков к другим ученым.
Папа закурил еще одну сигарету.
Мне подумалось, что в его постоянном курении, в этом проявлении слабости, выстраданном и превратившемся в собственную противоположность, есть нечто трагически непоправимое. В повторении одних и тех же действий — вынуть из кармана мягкую пачку, постучать по верхней грани, взяться двумя пальцами за охристый фильтр, зажать его в зубах, чиркнуть спичкой, коротко вдохнуть — ощущался осознанный выбор, сделанный в пользу самоуничтожения.