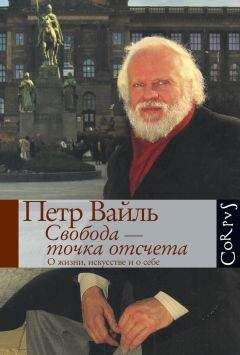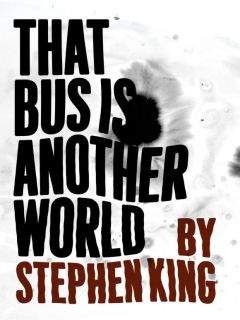Петр Вайль - Гений места
Античный Рим — несомненная ощутимая реальность. Снова и снова приезжая в город, убеждаешься в первоначальном подозрении: две тысячи лет назад он был таким же, как сегодня, минус мотороллеры.
Римских древностей в Риме гораздо больше, чем в Афинах — афинских, и они плавно вписаны в городские улицы, как пригорки и рощи в повороты сельской дороги. Естественно и природно, в зелени деревьев, стоит единственная сохранившаяся в городе руина инсулы — многоквартирного дома, многоэтажки. Таково жилье большинства римлян: во времена Петрония и в наши. Инсула — справа от Витториано, монумента в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II, беломраморной громадины, известной под кличками «свадебный торт» и «пишущая машинка». Обогнув его, выходишь к подножию Капитолийского холма. Прежде чем застыть в запланированном восторге перед Кордонатой — лестницей Микеланджело, — стоит взглянуть на кирпичную развалину, бывшую шестиэтажку. Дальше уже наверх, к прославленным музеям Капитолия. Из окна второго этажа Палаццо Нуово, где по всем расчетам находится знаменитый «Красный фавн», свешивается пухлый зад в алом трикотаже: искусство наглядно принадлежит народу. В зале, рядом с многосисечной Кибелой, присела немолодая и некрасивая женщина, кормит грудью ребенка.
Римская цепь впечатлений непрерывна. Конечно, Колизей стоит отдельной скалой, по которой карабкаются туристы, — великий монумент, и никак иначе его уже не воспринять. Но вот театр Марцелла минуешь, выходя от Капитолия к Тибру, как обычное здание, спохватываясь, что оно на полвека старше Колизея. По мосту Фабриция, построенному двадцать столетий назад, переходишь на остров Тиберину, с древних времен посвященный Эскулапу, — там и теперь, естественным образом, больница. Я ходил этим путем на медосмотр в 1977 году, оформляя документы на въезд в Штаты: римский транзит входил в стандартный маршрут тогдашних советских эмигрантов.
Гоголь писал, что в Рим влюбляешься постепенно, но на всю жизнь — у меня любовь оказалась на всю жизнь, но с первого взгляда. С первого ночного (венский поезд приходил поздно) прохода по городу: белый мрамор на черном небе, непременный аккордеон, облачные силуэты пиний, оказавшийся нескончаемым праздник на пьяцце Навона, кьянти из горла оплетенной бутыли на Испанской лестнице, к которой выходит виа Систина, где Гоголь сочинял «Мертвые души», задумав русскую «Одиссею», обернувшуюся русским «Сатириконом».
Только в Риме появляется странное ощущение, что город возник на земле сразу таким, каким ты его увидел, — так вся симфония целиком складывалась в голове Моцарта, и ее следовало лишь быстро записать. Рим записан в нашей прапамяти — потому его не столько узнаешь, сколько вспоминаешь.
Здесь ничто ничему не мешает. Все сосуществует одновременно. У Пантеона сидят провинциальные панки с высокими пестрыми гребнями, запоздавшие на полтора десятка лет, скорее уж напоминающие римских легионеров — так и так анахронизм. Распятый в мятом пиджачке в галерее Ватикана — тут не боятся кощунства: оттого, что представление о повседневности Распятия не умозрительное, а переживаемое. У собора Сан-Джованни-ин-Латерано — Скала Санкта, лестница из Иерусалима, по которой шел к Пилату Иисус. По ней поднимаются только на коленях; толстая женщина в коротких чулках, обнажая отекшие ноги, проползает каждую из двадцати восьми ступеней в четыре приема, переставляя поочередно черную дерматиновую сумку, туфли, себя. У лестницы — прейскурант: когда полная индульгенция, когда — частичная; в Страстную пятницу не протолкнешься. На Форум входишь, словно в деревню: у подножия Палатинского холма долго идешь по желтому в зеленом, вдоль плетня по полю одуванчиков и сурепки, пока не достигаешь того, что за века осыпалось тебе под ноги. Этим камням не подобает имя руин или развалин: во вьющихся побегах плюща, в свисающих гроздьях лиловых глициний, они красочны и необыкновенно живы. На Аппиевой дороге остатки виллы императора Максенция — как недавно заброшенный завод: поросшие травой краснокирпичные стены, торчат трубы.
Рядом в катакомбах Св.Себастьяна культурные слои перемежают христианство и язычество: храм над капищем, капище над храмом. Наскальные рисунки — человечек с воздетыми руками, голубь с веткой оливы, рыба. Ниши для трупов (их заворачивали в овчину, саркофагов на всех не напасешься) похожи на шестиместные купе в тесных итальянских поездах. Лежишь у Аппиевой дороги, как при жизни, — только без остановок.
Четырехслойным древнеримским дорогам позавидовали бы нынешние российские тракты. Дороги (наряду с правом) и стали основным взносом Рима в мировую цивилизацию, уведя в неоглядные дали. Глядишь на Адрианов вал, перегораживающий Северную Англию, как на памятник самосознанию людей, которым все под силу. То же чувство при виде римских акведуков: например, трехъярусного Пон-дю-Гара в Провансе, высотой в полсотни метров и длиной почти в триста. Сооружение масштаба Бруклинского моста — ради питья и мытья третьеразрядного городка Нима. А из речки ведром, смахнув мошкару?
В самом Риме петрониевских времен было одиннадцать водопроводов и шестьсот фонтанов. Американская чистоплотность: мылись ежедневно. Правда, патриоты-деревенщики I века н.э. славили простоту старинных нравов, когда чистота наводилась раз в восемь дней. Это наша норма: в армии мы по четвергам ходили строем с песней на помывку, а в детстве — по пятницам с отцом в баню на Таллинской улице. И ничего, слава Богу, не хуже других. Либералы, вроде Овидия, в изощренности быта видели прогресс: «Мне по душе время, в котором живу! / …Потому что народ обходительным стал и негрубым, / И потому, что ему ведом уход за собой». Ухаживали, мылись, брились — в сочинениях тех времен полно сетований на изуверов-цирюльников, и Марциал пишет: «Лишь у козла одного из всех созданий есть разум: / Бороду носит…»
Римская литература животрепещет уже две тысячи лет. Как же обидно лишили нас хоть зачатков классического образования. Катулл, Овидий, Марциал, Ювенал, Петроний — задевают, как современники. В «Сатириконе» о Риме, насквозь пронизанном мифологией, сказано: «Места наши до того переполнены бессмертными, что здесь легче на бога наткнуться, чем на человека». Это относится и к нынешним дням — только теперь речь о поэтах, бессмертных богах литературы.
В ювеналовской сатире большой город описывается в тех же выражениях, какими канзасец говорит о Нью-Йорке, сибиряк — о Москве: преступность, опасность пожаров, шум, теснота, суета. Рим не изменился даже в размерах: население при Нероне и Петроний — миллион-полтора. Отсечь никому не нужные окраины — и получится сегодняшний город в пределах семи холмов.