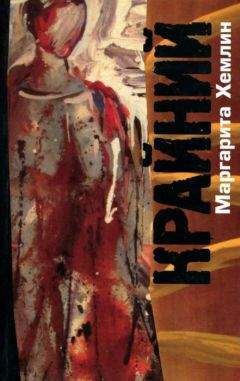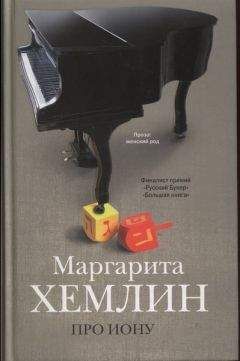Маргарита Хемлин - Дознаватель
Граждан еврейской национальности было много. Толпа разного возраста. Евсей — человек известный. Тем более — Довид. Оказали уважение, сошлись.
Товарищи из милиции держались отдельной группой. Все в форме. Темно-синяя. Как небо ясной осенью. Красиво. Кобуры кожаные. У многих трофейные, с войны донашивали. Сапоги, конечно, начищенные. Хоть и шли к яме через грязюку.
Меня как близкого друга вызвали сказать прощание.
Я сказал:
— Дорогой Евсей. У тебя остались сыновья. Мы их не оставим. Нашей Родине нужны все сыновья. Твоя семья будет счастлива, хоть и без тебя. Спи спокойно.
Я не говорил про долг, про боевую молодость, про награды Евсея. Я говорил про то, что болело у него на сердце в ту самую минуту, когда он спускал курок. Когда пуля летела ему в сердце.
Понимаю, некоторые меня осудили. Но иначе сказать я не мог. Правда просилась наружу. И я ее от себя отпустил.
Как Довид обещал, так и сделалось: после того как присутствующие побросали землю в яму и стали расходиться, он неназойливо и тактично прочитал молитву.
Зусель отошел за кусты и там всхлипывал по-своему.
Ну, его дело.
Табачник же, видимо, по своей инициативе сунул под голову Евсею сверток — религиозный полосатый причиндал и что-то еще. Довид объяснил на мой немой взгляд: талес и кипа.
— Еврею там, — Довид кивнул вверх, — без этого нельзя.
Показуха. Хоть и тайная, а показуха.
Ну, Бэлка, дети — говорить не буду. Описать невозможно, у кого есть сердце. У кого нет — обойдется одним словом: ужас.
Была на похоронах и Лаевская.
Смотрела на меня. Строила глазки. Губы накрасить не забыла. Я хотел невзначай спросить, что ж она макинтошик свой шелковый нигде не разодрала?
Лаевская подошла ко мне, взяла под локоть и прошептала доверительно:
— Хорошо, что Евсей в сердце прицелился. А то если б в голову — совсем плохо. В закрытом гробу — невыносимо. Согласны?
Я машинально кивнул, но сдержанно заметил:
— Почему в закрытом? Прикрыли б голову, а туловище на виду.
Полина хмыкнула и отошла.
Да, мне как фронтовику не раз приходилось убеждаться: кто умер, тому уже хорошо. Если смерть мучительная, то немножко другое дело. Но в основном после окончания процесса — все равно вечный покой. Вот и Евсею стало хорошо. Тем более прямо в сердце.
Перед живыми вырос вопрос: что делать с детьми? Трое мальчиков. А Бэлка одна. Ну, Довид, конечно. Но мать есть мать, и на ней главная забота о еде и одежде, воспитании и так далее. А Бэлка как раз сдала позиции стремительно и одним ударом.
Общественность с работы помогала. Собрали денежные средства. Я и собирал. Мы с Любочкой сделали немалый вклад из последнего. Она проживала с Бэлкой и детьми каждую свободную минуту, вместе с Ганнусей шла и делала все, что надо и возможно. И словами, и руками.
В общем и целом стало понятно: Бэлка тронулась умом. Удивительного в таком факте мало. Но детям не объяснишь, почему мама не говорит словами, а мычит и воет. И это еще мелочи.
Шалаш, что летом дети соорудили в ближнем лесочке, стал для Бэлки схованкой. Сидит там и сидит. Холодно, дождь. А сидит. Как побитая собака. Ей туда еду приносят — то Довид, то моя Любочка. Поставят около входа, уговаривают покушать. Она ни в какую. Ночью выходит вроде погулять. Без заворота в дом, к детям. А они плачут. Интересуются. Где мама? Плюс ужасающая антисанитария с ее стороны.
Мы с Довидом посоветовались и приняли тяжелое решение определить Бэлку на временное излечение в больницу, в Халявин.
Врачи говорили, что ее состояние может пройти. Есть неопределенная возможность подобного развития.
Но у всех своя жизнь. И наша с Любочкой жизнь продиктовала нам следующий закон: взять к себе младшего мальчика Иосифа двух лет. До полного выздоровления Бэлки. На сколько получится, на столько и взять. В рамках патроната.
Григория и Владимира взялся тянуть Довид. Собрал бебехи, продал хибару Евсея с Бэлкой, свой домик с приличным огородом и уехал в Остер. Почему в Остер — непонятно, но вольному воля. Видимо, под влиянием Зуселя Табачника.
Наш с Любочкой поступок был встречен моими сослуживцами с энтузиазмом. Каждый старался принять участие. Продуктами со своих огородов, домашними заготовками и прочим. Но еда — полдела.
Скоро, через пару месяцев после помещения в больницу, стало понятно, что Бэлка к здоровью не вернется. Приговор врачей оказался безжалостным, но честным. За что им спасибо. Лишняя надежда никому не помогала. Только хуже.
Так в нашей семье появился юридический сын. Навсегда, как мы пообещали с Любочкой друг другу и самому мальчику тоже. В присутствии Ганнуси.
Прошлое отодвинулось вдаль. И виделось, как в снежном тумане.
Но вот как-то в воскресенье я отправился на базар.
Предстоял праздник — Новый год. С длинным наказом Любочки, в радостном, приподнятом настроении я шел по красивой дороге — мимо бывшей Пятницкой церкви, сильно взорванной. Но белый снег укрыл тяжелые раны войны, и казалось, что это не разруха, а холмы и пушистые взгорья, а под ними чистота и, возможно, будущая трава и цветы.
Почему-то пришел на ум Диденко с его мнением насчет Бога. Ну, разве непонятно, если б Бог был, как он затуманивал детям головы, разве ж Он допустил бы такую войну? Не допустил бы. Простая логика. Я даже постоял секунду и про себя твердо сказал в адрес Диденко: «Без логики все может сойтись. Любые концы с любыми концами. А с логикой — нет. С логикой мозги не задуришь».
И тут на меня налетела Лаевская. Во всей своей красе. Лиса вокруг шеи, пуховый платок, хорошее пальто сильно в талию. Белые бурки с коричневой отделкой. Причем на каблучках. Вот она на этих каблучках и не удержалась, поскользнулась. И уцепилась за меня.
Подвела вверх глаза и вскрикнула:
— Ой, товарищ Цупкой!
— Цупкой, лично Цупкой, — говорю, — а кто ж еще вас, Полина Львовна, серденько, поддержит, чтоб вы не гепнулись! — засмеялся я от души.
Было хорошее настроение.
Лаевская улыбнулась во весь накрашенный рот, я увидел золотую коронку. А раньше не было. Я б заметил. Важная примета.
— Михаил Иванович! Я как раз к вам собиралась. К празднику что-нибудь принести.
И так сказала, вроде милостыню посулила.
Я сурово ответил:
— Ничего нам не надо. У нас все есть. Дети сыты, одеты, обуты. Спасибо.
И двинулся дальше своей дорогой.
Но Лаевская не отпустила.
Тянула назад за локоть:
— Я не только от себя. Я от людей. И Евочка Воробейчик кое-что хочет передать. Помните Евочку? Сестричку бедной Лилечки? Помните?