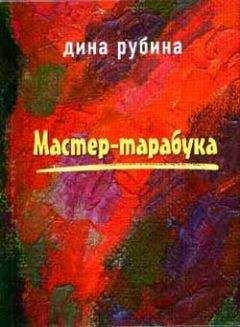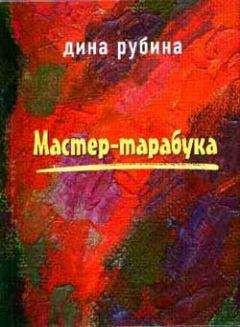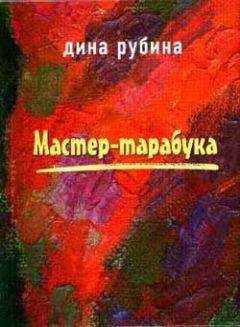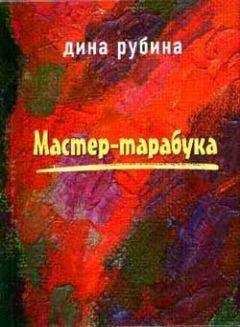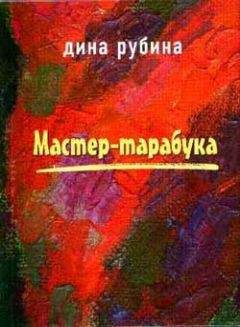Дина Рубина - Высокая вода венецианцев
И так же как с площади ушла вода лагуны, смятение и страх, весь день гнавшие ее по хлипким мосткам с одной улочки на другую, ушли, оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души. И, вспоминая застылую улыбку напугавшей ее маски, она думала: а может быть, эта длящаяся в веках эмоция и есть – победа над забвением?..
…Щенок подстерег ее на Калле Каноника, на ступенях одной уже запертой сувенирной лавочки. Ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение: всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов. Юрик, в доме которого прожили счастливую судьбу целых три спасенных ею пса, говорил: «Тяжелая собачья печать лежит на твоей творческой биографии». (Возможно, это было пожизненное искупление за мучения несчастных, лысых, лишенных иммунитета мышей.)
Мимо фланировала воспрявшая после спада воды, вечно оживленная публика – людям в голову не приходило бросить взгляд под ноги. Щенок сидел на верхней ступени крыльца и молча дрожал крупной дрожью.
– Да, – сказала она вслух, – вот этого мне здесь и недоставало. Это уже венецианский карнавал по полной программе.
Наклонилась, подняла его, мокрого, и он заискивающе лизнул ей руку, как-то сразу примащиваясь, удобно усаживаясь на сгибе локтя, как ребенок. Помесь ризеншнауцера с терьером, похоже, так. Что же это за падла тебя выкинула, милый? Или сам убежал, заблудился?
– Ну, и что мне с тобой здесь делать? – бормотала она. – Это ж не Иерусалим. Мне завтра уезжать… А? И в отель нас с тобой не пустят.
Она вдруг поняла, что ни разу с тех пор, как вышла из отеля утром, не вспомнила об Антонио. Это был хороший знак, знак освобождения от морока.
– Ладно, рискнем, – сказала она щенку. – У нас с тобой там маленький блат («Потусторонний брат», – добавила себе), авось проскочим…
Полезай в куртку, за пазуху, вот так. Увеличим грудь почтенной синьоры номеров на пять.
Но и блата не понадобилось: Антонио спал, сидя за стойкой и положив голову на локоть. Несколько мгновений она смотрела на его курчаво-античный затылок, не зная, как быть, но вдруг вспомнила, что утром не сдала ключ от номера и, значит, может попасть туда незаметно.
Бесшумно поднялась на свой пятый этаж и затем минут двадцать занималась щенком: вытерла его насухо полотенцем, накормила булкой. Он и маслины съел, жадно выхватывая из ее пальцев.
Интересно, проснулся ли тот, внизу… И почему она так упорно избегает ни о чем не подозревающего, учтивого молодого человека?
– Тебе молока бы сейчас немного… – сказала она, глядя на осваивающего комнату щенка. – В ресторане, конечно, есть… но как бы нас с тобой не поперли… Может, попросить у… портье?
И так, наскоро придумав себе это молоко для щенка, выскочила из номера, словно гналась сама за собою.
Спускаясь по лестнице, еще бормотала «берегись-берегись…» или что-то вроде этого, но вслушиваясь уже не в голос свой, а в шум закипающей в кончиках пальцев, разносящейся к вискам температурной крови…
Он по-прежнему дремал, опустив голову на сгиб локтя, с края стойки свисала изумительной нервной красоты кисть левой руки… Кисть правой, полуоткрытая, с чуть откатившимся карандашом, лежала покойно рядом.
Устал за день, подумала она. Ведь он учится и наверняка много рисует, и….
…вдруг эти большие смуглые кисти рук латинянина, длиннопалые дерзкие руки, так похожие на… Она даже отшатнулась от страшной волны отчаяния, ярости и жалобной тоски. Невыносимое, мучительное желание схватить его руки, вцепиться в них, удержать в своих обрушилось на нее так, как с грохотом и треском обрушивается срубленное дерево в лесу… Она даже зажмурилась, ожидая удара. И, уже не чувствуя себя, дотронулась до его теплой со сна руки… сжала ее…
От неожиданности он вздрогнул, поднял голову и несколько мгновений ошеломленно смотрел на нее, переводя взгляд на их сплетенные руки. Она молчала. И он молчал и не отнимал руки, наоборот, конвульсивно стиснул ее ладонь.
– Я подобрала щенка… – наконец проговорила она.
– Что?! – хрипло спросил он, не сводя глаз с их бесстыдно переплетенных, жадно осязающих друг друга пальцев…
– Я… подобрала… щенка, – повторила она вязким языком, уже понимая всю обреченность дальнейшего. – Он там… у меня в номере… и голоден… и я не знаю, что делать…
Выпростала из его судорожных ладоней свою руку, стала подниматься по лестнице и спустя несколько мгновений услышала, как молча и вкрадчиво-легко он взбегает за нею.
…И бесконечно долго длился их изматывающий подъем – эта погоня, этот бег по крутым ступеням, короткие, как ожог, поцелуи, ее бессильная борьба с его торопливыми губами, и наконец, когда – не помнила как – они очутились в номере, это спасение, укрытие в тесно сплетенный жар, в сладко пульсирующий лабиринт их не знакомых друг другу тел, этот мучительно-истомный мерный бой колокола в лоне тяжелых вод лагуны… медленный подъем до той парящей, той последней ступени, той обоюдоострой судороги-трели, освобождающей, отпускающей их тела на свободу…
Первое, что он сделал: проворным движением рук пробежал по ее волосам, вынимая все заколки, вытаскивая шпильки и разворашивая, разбрасывая по подушке медно-темные пряди.
– Что ты делаешь? – Она качнула головой, как Медуза Горгона, в попытке сбросить с головы клубок змей.
– Любуюсь… Я уже три дня, сил нет, мечтаю распустить эту медь…
Лег навзничь рядом и рассыпал ее волосы по своему лицу.
– …Если писать их, – бормотал он, чуть ли не деловито перебирая перед глазами прядь за прядью, – что пойдет в дело? Охра, английская красная… крон желтый… кадмий оранжевый… Или нет! – сиена жженая, английская красная, охра… Такие волосы бывают у ирландок, – сказал он и приподнял густую прядь, приглашая ее саму полюбоваться. – Смотри на лампу: на просвет сквозит пурпурно-золотым… Рубиновые, пунцовые волосы…
Она вспомнила: когда Миша нежничал, он любил вести вслед за расческой ладонью по ее волосам, приговаривая библейское: «Дай мне, дай мне этого красного…» Ее волосы, Мишина гордость…
– Ты никогда их не стригла?
– Никогда в жизни…
– Почему?
В самом деле, почему? В детстве Рита не давала, тряслась над ее гривой, как скупой рыцарь над золотом. Потом Миша не позволял стричь…
Она подумала: если струсить и дать себя в руки эскулапам и позволить проделать с собою все, что проделывают в таких случаях, выигрывая несколько месяцев у смерти, то она, конечно, потеряет свои прекрасные волосы, как Самсон, и так же останется беззащитной.
И вдруг вспомнила, как тем, последним их летом, их последними каникулами Антоша заглянул в ее комнату – она расчесывалась перед зеркалом – и вдруг метнулся на кухню, вернулся с огромным разделочным ножом и, схватив ее за волосы, намотал на руку, оттянув голову назад, как будто хотел перерезать ей горло. Крикнул: