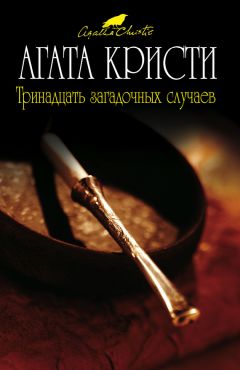Валерий Осинский - Верность
— Иначе нас бы там всех положили. Проход узкий, наливник не спихнуть…
— Больше некому было?
— Серега был ближе всех.
— А вы?
— Я замыкал колонну. Не было времени рассуждать.
— А вы? Что вы там все делали на этой дороге? Что вам было там надо?
Офицер тяжело вздохнул. Он смотрел за плечо девушки.
— Не знаю. Только, если б не Сережа, мы бы не разговаривали.
— Лучше бы не разговаривали! Простите! — Ксения уткнулась подбородком в грудь. — Отсюда все это ужасно. Непонятно. — Она вскинула голову. — Но зачем, зачем он туда поехал? Зачем туда вообще надо ехать? Ведь он был такой… такой честный, он так любил людей. Неужели нельзя никого не убивать. В чем смысл вашей войны? В каждой жизни и смерти должен быть смысл. Какой смысл в его смерти?
Рыжий покосился на девушку: не в себе, что ли? И снова посмотрел за ее плечо.
— Серега был настоящим офицером, выполнял приказ, берег своих и его любили. Правда, — рыжий хмыкнул, — любил порассуждать. Говорил: если бы наших предков подмяли, тогда бы нам нечего было жабры раздувать. А теперь надо защищать то, что создавали другие. Вот и все. А отсюда, возможно, виднее! — Офицер покривил губы.
Тут Ксению обдало жаром. Она вспомнила: за ее спиной в прозрачном целлофановом чехле висело свадебное платье. Девушка покраснела и потупилась, так, словно сидела в этом платье и рыжий обо всем догадался. В словах офицера теперь ей чудилась ирония и укор.
— Из последнего отпуска он вернулся… странный. Говорил, в части ему спокойнее, чем дома. Здесь он рассчитывает на себя и на тех, кто рядом. А дома все чужое. Так бывает после отпуска. С таким настроением лучше на рожон не лезть. — Рыжий помолчал. — Он вас любил.
Девушка прижала подбородок к кулакам и сказала сдавленным голосом:
— Там это важно?
— Наверное. У меня только мама. Думаешь, прежде чем без нужды башку подставлять.
Когда офицер ушел, Ксения все пыталась представить последний миг Сережки, взрыв, пламя. Потом снова ходила к Красновским. К гробу уже положили букет. У изголовья из черной рамки улыбался Сережка в парадном мундире. На красных подушечках лежали два ордена и медали. На снимке Сережка казался Ксении значительным и мужественным. А в уголках его глаз затаенная грусть, словно он спрашивал ее: как ты без меня?
«Дрянь! Дрянь! Из–за меня…» Но где–то среди неразберихи чувств чугунела странная мысль: смерть на этой войне нелепа, как гибель под троллейбусом, несчастный случай. Она, домашние, те, кто управляют ими, все они совершили чудовищную ошибку, за которую поплатился лишь Сережка. А других это война не касается. Сережка талантливый, хороший, любимый — убит! Ребенок — это лучшее, что Сергей успел за короткую жизнь. И кто Ксения, чтобы самовластно отнять у их малыша память об отце!
Ксения очнулась на пустынной сырой улице у подъезда — лицо было мокрым то ли от липкой измороси, то ли от слез — и повернула домой.
На кухне Борис ел борщ, и, закатав рукава, с занесенной ложкой, — Ксения увидела жениха через отражение в зеркале — в хорошем настроении умничал:
— Нет, нет, Сан Николаич, люди создали цивилизацию от скуки и от лени. Им надоело в пещере рассуждать о вечном и неразрешимом, и они придумали бога, карты и казино. Надоело гоняться за мамонтами пешкодралом и они оседлали лошадей и изобрели двигатель внутреннего сгорания…
Мать мыла посуду. Отец гремел бутылками на балконе.
— Ленчик приедет к половине завязывать ленты на машинах. Остальные — сразу в загс, чтобы не мелькать перед Красновскими! — с набитым ртом ответил Борис на реплику тестя. Он промокнул салфеткой подбородок, блестевший от жира.
— А как же коньячный спирт? — вяло пробасил отец.
— Саня, всего хватает. Кто его будет пить?
— Ленчик заберет! — примирил родню Борис.
Вера Андреевна увидела дочь и отвела взгляд. В дверях отец поискал, чем вытереть растопыренные, испачканные пальцы. Борис быстро прожевал и заулыбался, готовясь, что–то сказать невесте. Ксения ощутила себя, словно, в бесконечном лабиринте, где выход из мрачной паутины коридоров становится входом, и все повторяется. Она внутренне съежилась, будто перед нырком в прорубь.
— Боря, мне надо тебе что–то сказать! Пойдем ко мне в комнату!
Мать загремела посудой. Отец скрылся на балконе. Борис обсосал кость, промокнул рот и смял в тарелке бумажную салфетку.
— Опять двадцать пять! — проворчал он, и, неохотно отправился за невестой.
…Он слушал Ксению, и сытое выражение на его лицо сменила бледность. Рот перекосила кривая ухмылка. Хмельницкий, сгорбившись, присел в кресло. Он был оглушен. И чем дольше слушал, тем меньше понимал, что говорит Ксения. Наконец, он поморщился, словно от боли, и постарался вникнуть в слова:
— …Потому я не могу не быть с ним. — Ксения помолчала. — Мы, наверное, уже не увидимся. И я не имею права тебе говорить что–либо, после всего, что произошло. Но ты должен знать. Ты не мог, хотя бы не задумываться об этом! Ты ведь знал, что я его жена. Там, у скамейки сказал, что тебе все равно. Но тебе не все равно. И каждый день ты покупал меня, чтобы свести с ним счеты. Чтобы поломать все, что у нас с Сережей еще было. Доказать себе и мне, что за деньги можно купить все. И купил меня. Может быть, ты даже взял бы меня такой, какая я есть, зная, что я дрянь, и выхожу за тебя из–за денег. А, узнав правду, мстил бы мне за свое великодушие, за свое унижение, за то, за что оплатил. Но так мне не нужно…
— А как тебе нужно?
Ксения села на диван и уткнула подбородок в кулаки.
— Откуда ты знаешь, что я делал бы? — с грустной иронией спросил Борис и внимательно посмотрел на девушку. — Откуда в тебе это? Ведь я тебя люблю. И знаю, гадости, о которых ты говоришь, ты никогда бы не сделала. Думать и делать, не одно и тоже.
Он помолчал.
— Родители знают?
— Да. Я утром им рассказала…
Борис кивнул. Первым его порывом было уйти. Но завтрашний день со всей его чехардой, которую все равно кому–то придется растаскивать, толкался в воображении. Машины, гости, наряды, видео, продукты, вино. Столько сил положено! Борис мстительно хватался за обидные ответы на несправедливые упреки. И тут увидел себя глазами Ксении. Он признался себе: она права. Он ненавидел Красновского и как любой мужчина отвоевывал любимую женщину у соперника. Но теперь считаться не с кем. Решается их с Ксюшей жизнь:
— То, как ты поступаешь, еще большее зло, чем — то, в котором ты меня винишь! — проговорил Хмельницкий. — Возможно, меня не за что любить и уважать. Но разве я совершил низость и бросил в беде любимого человека? Ты покаялась перед ним, передо мной, признала сделанное тобой зло. И все? А мне, твоим родителям, моей маме, моим друзьям остается расхлебывать все это. Не слишком ли просто? Твой… парень лежит там, в гробу, — Борис ткнул пальцем на стену. — И те, кто придут завтра, поймут, что играть свадьбу под носом у его родителей кощунство. А те, кто не поймут, черт с ними! Но никто не поймет, за что ты обо всех вытерла ноги, спекулируя памятью Сергея.
— Что ты предлагаешь?
— Не знаю.
Борис тяжело вздохнул.
— Скажи, ты меня хоть немного любишь? — Он боялся смотреть в ее глаза. — Ведь было у нас что–то хорошее!
Ксения потупилась.
— Да, люблю! — выдохнула она. — Но иначе поступить не могу. Это его ребенок.
Хмельницкий медленно раскатал рукава рубашки и поднялся.
— Давай сегодня ничего решать не будем, — проговорил он. — У нас еще есть время.
На кухне Каретников капал жене и себе корвалол. Хмельницкий в прихожей надел туфли.
— Боря, погоди–ка! — негромко позвал Александр Николаевич. Он встал в кухонном проеме боком к Борису и виновато смотрел ему в ноги. — Ты прости нас. Мы завтра, как–нибудь уладим. В загсе и вообще. Так что не беспокойся.
Вера Андреевна, заплаканная, не вставая с табуретки, выглянула из–за мужа. Она согласно закивала и высморкалась в салфетку.
— Что же вы со мной так–то, Сан Николаевич? Как с посторонним.
Тот пожал плечами.
— А ты прости нас! Прости! Прости меня. Не угодить всем боялся. Дочке не угодить. Тебе. Ты думал, мне бы ее поскорее и выгодней замуж выдать? Она еще жизнью не тертая. Какой с нее спрос? А ты, молодой мужик. У тебя душа еще нараспашку должна быть. А ты одно: сколько стоит, да ка бы чего не вышло! Об колено ее ломал, когда она еще в себе не разобралась. За такое морду бьют. Серега был честнее нас. Если бы он был жив, этого бы не было!
— Что ты говоришь, Саша? — всхлипнула жена.
Каретников опомнился и с папиросой ушел на балкон. Борис растерянно кивнул и вышел.
Он спустился к машине. Мимо желтых, мигающих светофоров выехал в черный пригород. А затем долго катил по улочке, уложенной бетонными плитами и бесконечной в ночи, и рыжие круги света от уличных фонарей на дороге, казалось, кружились вокруг машины. Очнулся он лишь у дома с черепичной крышей и за высоким забором, между такими же заборами и крышами. Борис обнял руль и уперся лбом в руки.