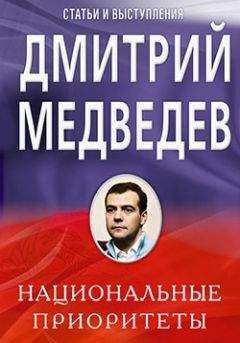Ефим Ярошевский - Провинциальный роман-с
Я писал тогда тяжелые, душные стихи о любви. И погибал от возвышенной страсти — и плотских желаний. Одно почему-то всегда исключало другое. Наверно, это было плохо. Но это было так. Я хотел и того, и другого. Неба и хлеба. И это было ужасно.
Прощай, кораблик! Плыви один. Я тут останусь. Я останусь там, где живет девочка в соседнем дворе. Пока. Покедова!
И потом — женщины. Их было чересчур много на юге. Больше, чем везде. Они так и кишели. Особенно на пляжах. Смуглые руки закинув, обнажая гущу подмышек, тяжелые губы подставив солнцу, лежали, смежив глаза, на песке, — и дурманящий запах их плоти кружил мне голову. Хотелось схватить их железной хваткой — за щиколотки: не просто прикоснуться, а взять их, как рабынь. Но даже подойти, подползти было трудно, почти невозможно. Голодный волчонок шалыми глазами пожирал грациозную лань, идущую к водопою…
Невыносимо, невыполнимо! Билось, подбрасывая песок, сердце.
Приходили уверенные, длиннорукие, как орангутанги, мужчины. Их-то ничто не заботило. И развратным ртом смеялась комсомолка. Сволочь, сволочь!
Потом все проходило, омывалось прохладным морским рассолом. Пляжи пустели, надвигались закат и ветер. Была острая зависть и тоска.
А утром лето начиналось снова. Великое лето 1952-го. Кончались экзамены. Кругом — пчелиное гудение страшного лета, бабочки облетали мою голову, кровь яростно неслась сквозь вены, выметая соль из закоулков; они взбухали и опадали, как морской прилив.
Потом был Крым. Теплая палуба, качающаяся под звездами, скрипит и пахнет морем. Ветер то тушит, то возжигает звезды. Со лба моего улетает пена.
Бриз остужал мою голову. Хотелось бессмертной любви, подвига, поэтической славы. Я плакал.
Глава 11. Бурная переоценка
Тихо, расскажи все по порядку. Значит, так…
Все началось на кухне. Кровавые огрызки колбасы напомнили впечатлительному мальчику камеру пыток. Потом — тесто. Тесто росло на глазах, как зоб; оно лопалось, вздыхало, пукало, ерзало по духовке, пока не достигло горячего потолка. Тогда оно пустило слезу и сразу изжарилось. Вкусно пахло коржиками с семитатью. Пейсах уже летал над еврейской кухней. Праздник витал над городом.
Кошка давилась в углу, никто не помог ей. Она знала, что никто не поможет, и стойко пыталась проглотить еще живую, ребрастую рыбу.
Мама в переднике, запачканном рыбными кишками, била в кастрюли, как в литавры. Наступал час обеда. Мальчик слушал колокольный звон. «Ты слышишь звон гусиного набата, Николай?» — хотелось ему спросить. Кого? Зачем? Никто ничего не знал. Не было никакого Николая. Мир был странен.
Раздался стон или плач, какой-то почти человеческий. Толя дико скосил глаза: в углу рыба медленно заглатывала мокрую от пота и страха кошку. Так начался его испуг. Его внимание к себе.
Потом пришел Дима Мильнер.
По Преображенской кротовито-шелудиво полз вечер.
Ночью появился Модест Павлович. Он был в комнатных чувяках, в пледике внакидку, тихий. Тронул спящее толино плечо.
Толя повернулся медленно, как торпеда. Надел очки. Спросил:
— Что скажете?
— Извините… Я пришел посидеть. Там дождь.
Он указал на окно.
— Сидите. Вы мне не мешаете, — сказал Толя. — Котлеты на кухне.
И повернулся к стене.
— Спасибо.
Гость сел в кресло и задремал.
«Этот Модест ко мне привязался», — подумал Толя и быстро заснул.
Толя решил все изменить. Решил все сменить: друзей, белье, знакомых. Шла бурная переоценка:
— Я малоподвижен. Надо двигаться. Всем телом. Надо убрать вес. Перестать сочинять. Пусть этим занимается другой кто-нибудь. Фима. Или Олег. Кому нечего делать другого… С работой — все. Кранты. Пора взяться за батю. Я даю ему в последнее время обильную пищу для его размышлений. Ничего, пусть привыкает. Я ему не враг. Но я хочу жить. И потом — я должен рассчитаться. (Не надо меня перебивать!) Завтра же разобью стекло в отделе кадров. Спущу с лестницы главного инженера. Заставлю подписать мне заявление. Все это скучно. Эти коридоры ведут куда-то не туда. Везде мне мерещатся задние проходы. Душно, темно, волосато. Каждый день учреждение пердит. Ровно в пять часов оно выбрасывает нас в город. На что надеются эти суки из конторы?
Он только что поел. Ковыряя в зубах большим пальцем, выплевывал мясо, брезгливо читал повестку. Его куда-то приглашали. Куда-то звали. Кажется, в суд. Зачем-то. Почему-то. Кто-то. Черт знает кто. Или это за зелень? Или за ту стычку с типом того знакомого незнакомца, с шарфом… А? Нет, это другое. Он бросил бумажку на стол. Красногубо улыбнулся.
— Ты видишь, Фима, как все стало выходить? Повестка в суд, туда, сюда. Мансы. Мне же — глубоко безразлично. Как и повсюду. Нет, меня это не колышет. Другое занимает мой ум. Ты понял? Как и всех. Что будем делать? По-моему, надо увидеть Лангера. Это первое. Он обещал мне фанеру. Дело в том, что я решил выточить из нее два треугольника…
— ?!
— Один я подарю Сереже Лиману. Обещал. Другой оставлю себе. Для нужд. Это так, пока. Пусть лежит. Как тебе известно, я все делаю медленно, и она созреет. На всякий случай. Это первое… Потом я займусь пилой. Это меня избавит от бед. На первых порах… А к писателю Львову я не пойду. Он из профессионалов. Это меня к нему влечет. И одновременно отталкивает. Но я решил застраховаться. Я понесу ему моего «Модеста», когда стемнеет. Я хорошо вижу в темноте. Так видит не всякий. Как ты думаешь, есть смысл нести к нему моего «Модеста»? Он будет в состоянии? По-моему, риск мнимый. Я только об одном боюсь: что я не сумею скрыть того, что я о нем думаю. Это меня немного смущает. Но это тот крен, который я преодолею.
Толя аккуратно запеленал рукопись, и, когда показались первые звезды, мы вышли.
Плыл в радужных нефтяных разводах, в слезах фонарей город. В проводах прыгали сумасшедшие макаки — семафоры-мигалки. В сумерках прошел дождь, город пролился неоновым рекламным светом, отражался в лужах, скользил, рос куда-то в сторону, как в кривом зеркале.
Проносились в капюшончиках знакомые. Пробегал Етров (Олежек), Рэй (Петушок), Лихтер (Шурок)… Ах, многие, многие там были!
Олежек в зеленой широкополой шляпе, видавшей виды, прикуривал на ветру у теплого ханыги по имени Серж. Тот моргал гнойными глазками и пытался спросить:
— З-за ско… з-за ско… з-за скоко… купил…
Ветер гасил спички.
— Я гврю… за с-скока к-купил… шляпа?…
Ветер пронизывал обоих. Олежек жадно и с отвращением вдохнул перегар изо рта Сержа и сказал:
— Извини, друг — дела! Пока, — и пряча ледяные пальчики в карманах пальто, лег на ветер.
Дождь понес его дальше. На углу его остановил задумчивый отец Лунца. Это было некстати. Стареющим Жаном Габеном представился он. «Ничего, это ненадолго,» — успокоил себя Олег и с участием стал слушать.
«Батя», — нежно подумал Толя, но не подошел. «Как-нибудь они сами», — решил он. Батя с интересом себя слушал. Олежек тоже. Собеседник брал его в плен.
— Как вы думаете, это для него выгодно? Нет? Почему? Вы видели его рисунки? Вам они нравятся? Мне они нравятся. По-моему, это хорошо. А по-вашему? Нет? Почему? Я так и думал. А что вы на это скажете?… — и последовал обстоятельный рассказ о Толиной работе. — Надо на него повлиять, — закончил отец и сразу ушел.
Олежек полетел дальше. Пальто его изрешетили звезды. (Мы с Толей все это видели). Пролетая над неоновой лужей, он говорил:
— Я бы хотел повидаться с одним из братьев Стругацких. В крайнем случае с обоими. Мне по душе тот общий язык, который они между собой находят. Потом — я их проверю на кипятке.
Глава 12. Спина захолустного Антиноя
С Дюльфаном я встретился у Аркаши.
— Бенемунес [ честное слово (идиш) ], Аркаша, ты меня обижаешь. Ты меня не понял. Я не швыряюсь хорошей живописью. Наоборот. Я умею ценить. Но между прочим, тут я не вижу ничего такого. Эти американцы неплохо рисуют. Они умеют придумать. Но откровенно говоря, эти работы меня не харят. Грубо? Зато правдиво. Ты понял? Это можно смотреть, а можно и не смотреть. Зачем же тогда это? (Кстати, ты ешь сыр? Аристокроц! Впрочем… Рюмки сметаны мне достаточно. Спасибо). Да, так на чем это мы?… Ты понимаешь, это все годится для сортира. В крайнем случае, для «Экспо-73». Но не более. Ну, все, я себя утомил… Ты идешь? Я иду. (Слушай, у вас отличный сыр. Между прочим). Мне, например, нравится Леонардо. Но ближе всех мне Люсьен Дульфан. Тебе нравится Бердслей. Твое дело. Как рассуждает Прик? Он ставит себя на пятое место — после Леонардо, Шагала, Рембранта и Рихтера. Пятый — Прик! Я так не говорю. Стрельников себя имеет на седьмом месте. Его дело. Это распределение мест мне пр етит. Надо быть штымпом, чтоб всерьез так поступать. (У вас отличная мебель в кухне. У вас стиль). Фима, ты идешь? Я иду… Посмотри, Аркаша, у тебя отличный двор. Именно потому, что он воняет. Именно поэтому. Прекрасные окна, редкий пролет. Я уже не говорю о графике, но как это ложится в живопись! А этот беспризорный кот с разорванным горлом? Шик… Викентий? Кто такой Викентий? Ах! Сазонов. Витя. Да, да. Тихий такой блондин в разбойничьих очках? Знаю. Но ведь он погиб в Средней Азии! Нет? Вернулся? Значит, его не засосали пески Кара-Кума. Я рад. Хороший он человек. Хотя и поц. Ну, пока.