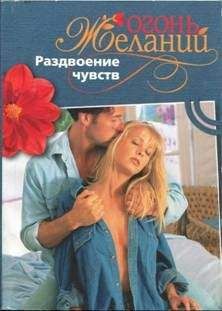Эргали Гер - Кома
Дело поставили на широкую коммерческую ногу, то есть завели кассу и выставили в окне «наружку» – нарисованный Толиком плакатик про интернет-клуб: завитушки, звездочки, реквизиты, график работы. – «Сойдет», сказал Пал Палыч (случайные прохожие в мясомолочной зоне смотрелись экзотами). Для лишенцев, естественно, интернет остался бесплатным, но пользователей среди них было немного – основной клиент писал чувствительные письма на родины и жарился в стрелялки на убывание. Раз в неделю приезжала тетя-бухгалтер, снимала кассу и отстегивала Алексею зарплату. Получалось негусто, но сносно, а к концу лета, когда при клубе оборудовали стойку с кофейным аппаратом и холодильником – вполне даже сносно. На бар поставили оторву Алену, дочку лишенки Веры Кравчук: ее оранжевые хайры и пирсинг смотрелись за стойкой элементом дизайна. «Лучше бы Ирочку взяли Левицкую, такая милая девушка!» – вознегодовала Кома в последнем приступе матримониальных надежд; впоследствии, однако, вынуждена была согласиться, что милым девушкам в клубе для гастарбайтеров делать нечего.
В общем, неожиданно для себя Алексей оказался на бойком месте. Кома даже не знала, радоваться за сына или печалиться: какой-то он стал совсем смурной и безрадостный. Понятно, что особо радоваться было нечему – так, подсластили пилюлю; понятно, что с непривычки работа с людьми вообще, а с данным контингентом в особенности не столько подзаряжала, сколько опустошала ее затворника; но все же, все же – впервые за много лет пошли не газетные гонорары, а деньги, твердый оклад, серьезная энергетическая подпитка для любого мужчины – но и деньги, похоже, Лешку не радовали. Разве что обзавелся мобильником и добился от Комы, чтоб она тоже сменила номер. За все лето не написал ни одной статьи, не прикупил ни одной книги – это последнее как-то особенно настораживало, хотя складировать книги после того, как Кома въехала в Лешкину комнатушку, действительно было некуда.
А тут еще Рае Зворыкиной померещилось, что в ее вотчине мимо нее пилят бабло. И кто? – Хромоногий сынок все той же Протасовой! То есть как в воду глядела Рая: неспроста, ох неспроста оставили старую каргу в общаге! По дурости Зворыкина побежала стучать начальству. Там выяснилось, что Пал Палыч не идиот, то есть заводское начальство в доле; пришлось утереться и обратиться, как учил Кутузов, к дубине народной войны, то есть к прессингу по всему полю. Отныне ровно в одиннадцать вечера Зворыкина самолично спускалась в клуб и рявкала Лешке в лицо, чтоб закрывал лавочку. Ни покурить, ни полазить по интернету после комендантского часа и думать не моги: на этот счет охране даны были четкие указания. Редкую птицу – клиента с улицы – тормозили на входе и требовали предъявить документ. Вере Кравчук, работавшей при клубе уборщицей, запретили сгружать мусор в приписанный к общаге контейнер. Ну, и так далее – палитра у опытного коменданта богатая. В конце августа, во время ежегодной перерегистрации, у Алексея, Комы и Аленки таинственным образом пропали по дороге в паспортный стол заполненные анкеты. Переписали по второму разу – опять пропали. Тут Алексей не выдержал и составил на Салтычиху (так они прозвали Зворыкину) заяву в милицию. Там посмеялись, но все равно – пришлось фотографироваться и заполнять анкеты по третьему разу.
– Какие могут быть терки с комендантом общаги? – искренне удивлялась паспортистка, миловидная девушка с азиатским разрезом глаз. – Совсем безбашенные, что ли? У нас в Москве так не принято.
А потом случилось все остальное.
Те четверо, которые не захотели быть овцами, все-таки подали заявления в прокуратуру. Месяц прокуратура чесалась, потом понеслось: дело завертелось, а жизнь разладилась, как и предсказывал Учитель. Пришли к нему следаки: что за херня, у тебя бизнес или политика, помоги разобраться. Что есть истина? Ежели ты застройщик такой с огоньком хитрожопый, то давай разговаривать, а если сектант, то нефиг людям морочить головы. – Неизвестно, что ответил Учитель, только в сентябре его арестовали и упаковали в Бутырку. Пал Палыча тоже арестовали, но выпустили под подписку о невыезде. Зачастили в общагу следователи, беседовали по душам с братьями-сестрами, уговаривали писать заявления в прокуратуру и молиться в храме Христа Спасителя, а не на общих собраниях. За ними прикатил кандидат в депутаты, за кандидатом уполномоченный по правам человека и свора тележурналистов, потом опять следователи. Дело-то оказалось не простое, а резонансное, на контроле у самого градоначальника. А может, у митрополита.
Наведывался в общагу Пал Палыч, просил держаться. Поговаривали, что в «Белом голубе» тоже нелады: без Учителя, без молитв отца Александра, вернувшегося в лоно церкви, собрания сваливались то в «пятиминутки ненависти» по адресу отщепенцев, то в жилтоварищескую говорильню. Одни предлагали идти на Кремль, другие – организовать сидячую голодовку под стенами Бутырской тюрьмы. Кинулись было собирать деньги для выпуска Учителя под залог, но пошло туго: у всех ремонты, внутренняя отделка и обустройство – тем более что под залог Учителя не выпустили (побоялись, должно быть, что и впрямь поведет братию куда-нибудь не туда). А еще по рукам пошли послания, передаваемые из Бутырки на волю. Писал Учитель хуже, чем говорил, однако ж его малявы зачитывали вслух на общих собраниях, заучивали наизусть, с упоением цитировали и комментировали на все лады. В общем, надрыв и ересь, ересь и профанация.
Тогда же узнали фамилию Учителя: Лобков. Больше всех впечатлился почему-то Алешка. Время от времени, когда боль отпускала, он озадаченно смотрел на мать, потом с дурашливой издевкой произносил: «Учитель Лобков…». Но Коме было не до Учителя, не до обидок: у Лешки обнаружился рак поджелудочной железы.
Вечером двадцать третьего сентября он вернулся из клуба, покряхтел пару часиков, поворочался, потом попросил Кому вызвать «скорую». Сказал, что болит в паху. Скорая отвезла Лешку в больницу, там посмотрели и отправили в диагностический центр на Каширку. А на Каширке определили рак, причем в запущенной форме: срочно нужна операция и срочно нужны лекарства. И отпустили стонущего Лешку домой: сказали, что позвонят, когда подойдет очередь, тем более без прописки. Или другую поищите больницу. А без очереди только за деньги: семь тысяч долларов. По-нашему – двести десять тысяч рублей.
Только нельзя ему долго ждать, сказал напоследок врач. Чем быстрее, тем лучше.
Кома собрала все сэкономленное Лешкой за лето – двадцать тысяч рублей. Накупила лекарств и инъекций (хватило на две недели), сама вводила ночью и днем, лишь бы только не стонал Лешенька, лишь бы хоть чуточку отпустило. Помчалась в «Белый голубь» к Пал Палычу, бросилась в ноги, но Пал Палыч только развел руками: «Все понимаю, Кома, понимаю и сочувствую, но денег ноль. В воскресенье объявлю на собрании – может, как-нибудь наскребем…». От себя дал пятнадцать тысяч, сказал, что последние. Кома взлетела на последний этаж, к профессору Волкову – десять тысяч. Сотник Латышев – пять. Фрида с Толиком – три последние тысячи. Всего тридцать три штуки (почти на три недели лекарств). Всю обратную дорогу ревела в голос, пугая прохожих и пассажиров метро.
Видно же было, что сын болеет, видно! Всего-то делов – сосредоточиться на минутку, сосредоточиться и осознать то, что видят глаза, ежедневно посылавшие в мозг сигналы тревоги!.. Можно было вычислить эту опухоль еще весной, когда она только-только проклюнулась, пока не разрослась в Лешкином паху раком. Кабы не ее, Комина, зацикленность на своих болячках, не летаргическая дрема мозгов, не напряженное постоянное ожидание звонка от Учителя… Была б она матерью, а не дурой последней, сын не корчился бы сейчас от боли, не умирал в тесной комнатушке общаги! Жили бы в «Белом голубе», в радостном строительном гаме, в каком-никаком, а братстве – и не было бы этого злосчастного рака, не было бы! – Мозги переклинивало от таких мыслей. А главное – непонятно, где и как искать деньги.
На другой день поехала в газету, с которой Лешка сотрудничал чуть ли не десять лет. Главный редактор самолично позвонил знакомому специалисту в госпиталь Бурденко, тот сказал: «Привозите, посмотрим». Повезла Лешку в Лефортово, профессор посмотрел и сказал, что операция безусловно нужна, могут сделать по минимальному тарифу, как своему, но даже по минимуму выходило сто восемьдесят тысяч рублей: «Я же, милая, не один работаю, а это серьезная операция, многочасовая, обходной анастомоз тут не прокатит…». Прописал химиотерапию, а на прощание взглянул так заученно, так без проблеска, что Кома про себя взвыла. А денег все равно не было: в газете выписали двадцать пять тысяч, сказали, что трудные времена, больше пока никак.
Тип-топ на два сеанса химиотерапии.
Приехала Фрида – как раз тогда, когда Кома почувствовала, что валится с ног, проваливается куда-то совсем. Часа через два после ее приезда – Кома только-только прикемарила на кушетке – заявилась на пару с охранником Рая Зворыкина, стала орать, что посторонним нельзя, проваливай, Фридочка, откуда пришла, а больным место в больнице или на кладбище, еще неизвестно, какую они тут заразу разносят. Слава Богу, что на Фриду попала, а не на медсестру: специалистка по военному сопромату разобралась со Зворыкиной одной левой, обеспечив Коме неделю затишья хотя бы на этом фронте.