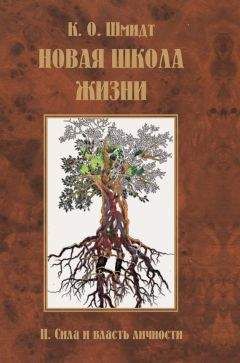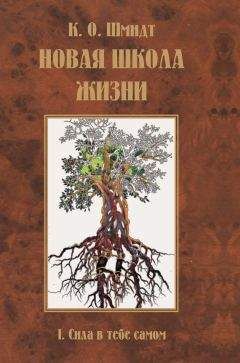Жюльен Грак - Сумрачный красавец
Мы шли, не произнося ни слова. Посыпал мелкий дождик. Тропинку заволокло туманом, она стала печальной, как само несчастье.
В "Рыбацкой хижине" никого не было. Ни одной живой души в просторном, разделенном на кабинеты зале с лакированными еловыми панелями по стенам. В широкие окна видны были только свинцово-серое море да узенькая полоса плоского побережья. Не пейзаж, а голый скелет, первобытная пустота, — лишь непрерывно несущиеся тучи, стелющаяся трава и "вечно изменчивое" море. Я напомнил Кристель фразу из флоберовской "Саламбо": "Кельты с сожалением вспоминали три нетесаных камня под вечно хмурым небом, на берегу усеянного островками залива".
Огромный, погруженный в сон зал, где шага и голоса звучали слишком громко, так испугал нас, что мы, не сговариваясь, выбрали столик в углу; тяжелые тучи за окном, сквозь которые лишь иногда, украдкой, проглядывало солнце, скучающий, медлительный официант; и внезапно — тягостное ощущение, что нас занесло в этот дождливый край не ко времени, по ошибке, на нашу беду… право же, мы здесь как в западне. Так бывает, когда дружеское застолье подходит к концу, когда умолкают песни, смех, иссякают шутки и воспоминания, — веселье разом улетучивается, и ты вдруг оказываешься один за ресторанным столиком, уже поздний вечер, и на душе тоска. Здесь ты словно забыт жизнью и медленно растворяешься в плотном, точно вата, тумане, под мелким, настырным, бесконечным дождем.
Зачем мы пришли сюда? Мы оба чувствуем, что сегодня нам нечего сказать друг другу, — каждый идет своей дорогой, ограждая себя непроницаемой стеной тумана. Оконные стекла тряслись от грозных порывов ветра. День, сонно потягиваясь и зевая, словно замер на пути к закату. Царственно шуршали волны: это было похоже на шелест тополей на сильном ветру.
Мы говорили о путешествиях. Кристель рассказывала о пейзажах и о городах, которые ей хотелось бы увидеть, — она мечтала побывать в Константинополе, заранее знала, что полюбит его всей душой. Прямо здесь, на моих глазах, у нее возник, созрел во всех деталях и почти что начал осуществляться план поездки, намеченной на следующий год: поистине, в ней говорило чувство. А я вдруг разозлился.
— Простите, но в Константинополе, кажется, одно время жил Аллан Мерчисон, или я ошибаюсь?
Она залилась жгучим румянцем, не пытаясь это скрыть, растерялась, — но затем взяла себя в руки, с горестной отвагой, от которой у нее выступили слезы:
— Да. Правда, это необыкновенный человек?
— Правда. Необыкновенный.
Я подумал, что будет чересчур жестоко продолжать эту беседу.
22 июля
Ирэн, Ирэн, это дело ваших рук — нежных рук простодушной сводни, эта идея могла родиться только у вас, так, словно в ней не было ничего особенного. Ведь если что-то может случиться, значит, оно должно случиться, — и все тут. Такие, как вы, оказавшись в огненном кольце Брунгильды, сразу бы подумали: ничего страшного, надо только подобрать платье и побыстрее прыгнуть. Это верно: прыгнуть можно всегда.
Я разлегся на пляже, возле моей купальной кабинки, и читал роман, поджариваясь на солнышке, как вдруг увидел идущую ко мне Ирэн: она была в радостном возбуждении, губы приоткрыты в сдержанной улыбке.
— А ну-ка вставайте, мерзкий лентяй! Мы едем в замок Роскер.
— Вот еще! Что мне там делать?
— Мы устраиваем пикник. Анри едет с нами. Я беру Жака, Кристель и месье Мерчисона.
— Как, вы знакомы?
— Ну, это же очаровательный человек. Знаете, в отеле он держится отчужденно, его просто невозможно поймать. И вышло так, что мы познакомились в казино, вчера вечером. Он страшно понравился Анри. И Анри просто в восторге от моей идеи. Вы не представляете, что это такое — развалины Роскера в лунном свете. А луна сегодня будет великолепна. Вставайте-ка поживее, лентяй вы этакий.
Ирэн уже успела отобрать у меня роман и шутливо тыкала в меня зонтиком, словно бандерильей. Слегка ошеломленный, я сдался. Как — то не укладывалось в голове, что все мы, вот так вдруг, можем оказаться в одной компании.
В пять часов вечера мы собрались в саду отеля. Чрезвычайно довольная собой Ирэн представляла гостей друг другу. Аллан был очень элегантен, очень холоден, — мысли его витали где-то далеко. Кристель, немного бледная, упаковывала провизию и плащи. С моря дул сильный ветер, и по верхушкам лиственниц, по кронам исполинских сосен прокатывалась величавая буря. Каждый из гостей робко пытался освоиться в новом для себя дружеском кругу, в принужденной и потому искусственной атмосфере сердечности. Я смотрел на эту наспех сколоченную компанию — и вдруг у меня возникло чувство, что все мы вынули некий жребий, что на нас указала судьба, и теперь нам, избранным по необъяснимой прихоти, уготована особая участь. Иногда просматриваешь утреннюю газету — и тебе прямо бросается в глаза фотография: министр садится в самолет, группа альпинистов отправляется в горы. Потом узнаешь, что самолет упал, едва успев набрать высоту, а группа альпинистов погибла под лавиной.
Но что это я несу? Наверно, Грегори заразил меня своим шотландским суеверием.
Мы с Жаком сели в машину Аллана. Не знаю, почему, но в моем воспоминании эта недолгая поездка превратилась в длительное путешествие. Аллан вел машину очень внимательно, серьезно, как подобает. Я видел его в профиль, — он казался собранным, напряженным. Во всем его облике есть некая торжественность. Я смотрел, как его чуткие руки ускоряют и замедляют движение, как кожаный ремешок на его запястье перемещается над приборной доской, и мне вдруг показалось, что я вижу пилота истребителя в момент боя. Он был бы так же спокоен, как и сейчас, а я, сидя рядом с ним, точно так же не ощущал ни малейшего страха. Его лицо, невозмутимое, точно у индейца, неподвижное, словно маска, — казалось, я вижу моментальный снимок, сделанный при зловещем свете молнии. Да, он из древней породы охотников на людей, из тех, кто способен, не уронив себя, шагнуть навстречу чему угодно — и когда угодно. Это принц. Король.
Нет, похоже, в словах Грегори что-то есть.
Это неподвижное лицо, это поразительное, неземное бесстрастие человека, который убивает и спасает от смерти с одинаковым равнодушием: таким бывает хирург, склонившийся над скальпелем, или солдат, вонзающий штык во вражескую грудь. Неподвижность божества. Если бы ему вздумалось вот этими уверенными, ловкими руками направить машину так, чтобы я разбился о дерево, — за секунду до столкновения по его глазам ни о чем нельзя было бы догадаться.
Сразу за Керантеком дорога начинает петлять, поднимаясь все выше над зеркальной гладью моря. Отсюда видны могучие утесы побережья и зияющие в них пещеры, песчаные отмели, раскинутые, точно гамаки, между двумя мысами, и белые складки на них, а еще бесконечная череда волн, вдруг замедляющих свой бег, словно их не отпускают прозрачные глубины. В воздухе висит едва заметная дымка, чуть приглушающая звуки, затем появляются желтые цветы утесника на склонах, и вдруг — зеленый свод лиственного леса, где мягкая земля вздрагивает от падающих капель. И опять этот ветер, не оставляющий в покое макушки деревьев, — неповторимая музыка приморских лесов, которые ветер настраивает в согласии с морем. Близился вечер, и приятно было уноситься вперед под низко нависшим сводом листвы, откуда срываются капли, где придорожные песчинки вспыхивают на солнце, словно алмаз, — это напоминало бегство, и возникала мысль, что возврата не будет. Именно так я всегда представлял себе путь в сказочную страну: через лес. Мне казалось, что после сумрака ветвей наш глаз начинает видеть яснее, что поля сияют каким-то новым, более мягким и нежным светом.
И вдруг лес расступился, перед нами открылась широкая равнина, она тянулась в бесконечную даль, к цепи холмов, тонувших в тумане. И среди этой пустоши, в углублении, — словно лужайка с желтой травой, поблескивающей на склонах: озеро. Чистое, ясное, не потревоженное ветром, на исходе дня, когда уже показались звезды, — казалось, мы подступили к границе какого-то удивительного царства безмятежности, объятого неземным покоем, где ничто не встрепенется, не шелохнется, ни лист, ни ветка. Да, это был водоем, и взгляд зачарованно скользил по его плавно спускающимся вниз, к самому дну, берегам, — величавым берегам, с невысокими насыпями из мелкой гальки. И только одинокий утес, ощетинившийся деревьями, отбрасывал черную тень между этими безупречно гладкими, лоснящимися, как у лошади, боками. А на самой оконечности крутого утеса, во впадине мертвого озера и вместе с тем на краю неба, высился замок Роскер.
Пейзаж был такой необычной и такой захватывающей красоты, что мы, не сговариваясь, остановили обе машины на берегу озера и долго, без слов, любовались этим зрелищем. Крутые склоны утеса, ведущие вверх к развалинам, повсюду заросли густым, темным лесом, из которого местами выглядывали зеленые макушки деревьев, похожие на причудливые шпили и башенки. А на вершине этого каменного зубца, поднявшегося из черных вод, исходя багровыми в закатном свете, точно потоки крови, грудами камней из осыпавшихся стен, опоясанный у основания голубоватой полоской озерного тумана, повис над землей, застыл во времени замок, похожий на те призрачные, волшебно-розовые горы, что перед заходом солнца вырастают над облаками вместе с первыми звездами, в нездешнем свете.