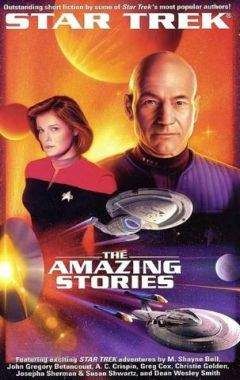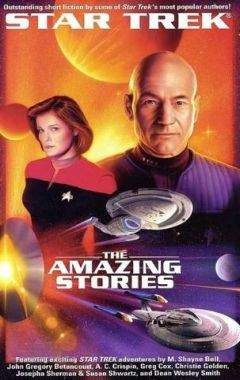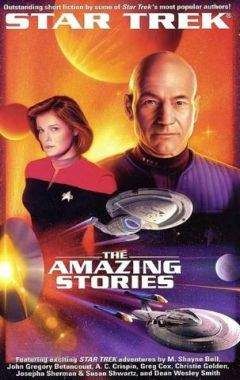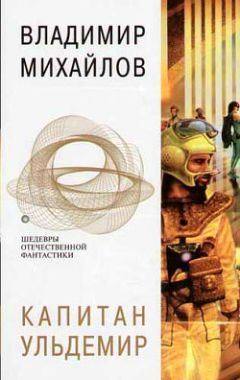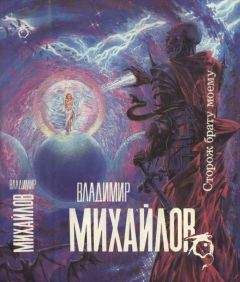Е. Бирман - Эмма
— Значит, самая короткая из твоих юбок и самые высокие каблуки — это для визита к папе?
— Прекрати, Шарль.
— Не волнуйся так, не то у тебя выпадет грудь из лифа.
— Свинья!
— Берточка, — обратился Шарль к дочери, — твой папа — свинья. Хрю-хрю!
— Оставь ее в покое, кретин!
Тем временем я, обнаружив, что попал в тупиковую улочку, развернулся и снова должен был проехать мимо них. Я притормозил, открыл окно, чтобы с юмором объяснить свое нелепое вторичное появление, но тут увидел красные пятна на лице Эммы, плачущую Берту и побледневшего Шарля. Не прошло и трех минут, как мы расстались, произошедшая в них перемена поразила меня.
— Что случилось? — спросил я будто бы озабоченно, а на самом деле предчувствуя, догадываясь и — да, конечно, — ликуя.
— Поезжай, поезжай, — сказала Эмма.
— Она полагает, что я — кретин и свинья, — сказал Шарль, — а ты как думаешь?
— Шарль! — сказал я спокойно-укоризненно, но внутренне бурно радуясь.
Любая несправедливость в отношении бывшего друга казалась мне в этот миг вполне заслуженной им.
— Может быть, я и правда кретин и свинья, но тебе-то я был настоящим другом. А знаешь, — спросил Шарль, — откуда я приносил для тебя новенькие коробки «Беломорканала»? Я воровал их в магазине, мой отец никогда не курил этих папирос. А ты жулил, играя в карты на деньги (наглая ложь!!!), и скармливал мне по три мороженых перед качелями, чтобы меня стошнило на них! (Ну, надо же — какой подлец!) А начал ты с того, что сдернул с меня трусы.
— Зачем ты врешь? — взбунтовалась Эмма. — Я же видела — это был не он. Они подбежали к тебе вдвоем, но сдернул трусы не Родольф, он только боднул тебя головой в грудь.
— Как Зидан Матерацци, — прокомментировал я, хотя про «бодание» не помнил.
— Зидан боднул после того, как Матерацци сказал ему гадость, — с отвратительной плаксивостью в голосе пожаловался Шарль, — а ты и оскорбил, и сам же въехал головой в грудь.
— «Головой в грудь…» — презрительно передразнил я Шарля. — И что я сказал тогда? — это сейчас мне много чего хотелось бы наговорить ему, а тогда, в двенадцать лет, что уж я мог сказать такого, что обижало бы его по сегодняшний день?
— «Эй, рогатенький!» — припомнил Шарль без особой охоты.
Эмма расхохоталась.
— У тебя на макушке, — сказала она Шарлю, — действительно были два ежика, вместе похожие на рожки. Я помню, я смотрела на них после того, как ты вернул на место свои штанишки.
— Ну, наконец-то я услышал, что привлекло тебя в этом типе, — сказал я, обращаясь к Эмме и жалея, что я не тот актер с гуттаперчевым лицом, который играл в «Маске», и не могу, обернувшись к Шарлю, изогнуть улыбку в виде рогов.
— И жаль, что это не я оголил тебя, — желчь, затопляя удовлетворение, разливалась во мне, Шарль воспринимался мною в это мгновение как волоконца жесткой говядины, застрявшие между зубами. Так же нетерпеливо, как желал бы я в этой ситуации обладать длинным ногтем, заостренной спичкой, а лучше всего — настоящей зубочисткой, чтобы выковырять побыстрее досадную, грозящую стать гнилью помеху, так же неистово я искал слов, которые обидели бы его посильнее, но сказал то, что мучило по-настоящему меня самого:
— Жаль, что это не я устроил экспозицию распылителя мистера маляра, из которого он замазывает бесценные картины.
— Да? — Шарль схватил на руки плачущую Берту. — Смотри, смотри, как рисует этот распылитель!
Я молча вынул ключ из замка зажигания и вырезал им тот кусок желтой кожи сидения, который повторял еще контур Шарлевой задницы. Трудно сказать, зачем я это сделал: за психически неуравновешенным жестом, декларирующим мое негативное отношение к оскверненной обивке сидения, за демонстрацией бескорыстного благородства через варварский поступок, видимо, скрывался еще какой-то нечистый подтекст, который должен был обиняком выставить Шарля завистливым безлошадным смердом.
— Ха-ха-ха! — Шарль прямо закатывался от смеха, словно он превратился в крайнюю плоть на своем же твердеющем на глазах мерзком инструменте размножения Эмм. — Хочешь, я дополню картину и вырежу на память контур еще кой-чего, что не оставило четкого следа на сидении, но нередко оставляет следы в неких таинственных глубинах?
— Как вам не стыдно? — кричала Эмма. — Вы оскорбляете меня оба. Она потащила Берту вперед по тротуару. Шарль был отвратителен.
— Династия длинноногих шлюх, — негромко сказал он, видимо, имея в виду, прежде всего мать Эммы и уж только потом ее саму, но сказал-то он это вслед Эмме и Берте. До него тут же дошло, как может быть истолкована сказанная им гадость, он покраснел, но фанатичное упрямство, незнакомое мне в нем раньше, взяло свое.
— Династия длинноногих шлюх! — еще раз глухо и зло произнес он.
Это повторение было невыносимо, оно было хуже, чем даже смысл его грязных выкриков. «Совсем рехнулся», — подумал я, но поглядел на ноги Берты, полюбовавшись же, решил, что еще рановато судить, какими они станут, когда девочка вырастет.
— Не смей пялиться в ЭТУ СТОРОНУ! — взревел Шарль.
— Да ведь ты сам обратил мое внимание, — уж я постарался назло ему как можно более гнусно оскаблиться. — Ша-арль, — сладко пропел я, — ай-яй-яй!
Вы ведь обращали внимание в супермаркетах, какие нарядные, пухлые, свежие, веселые лежат на полках под ярким светом разноцветные сладкие перцы. Они бывают красными, желтыми, зелеными. Именно эти цвета, кажется, даже в этой последовательности сменились на лице Шарля, но не было в нем ни нарядности, ни пухлости, ни свежести, ни веселья, а я страстно желал, чтобы лицо его теперь побелело так, как никогда не случается со сладкими перцами, но каким только и бывает выставляющий их на обозрение неоновый свет. Но вместо этого Шарль вдруг повеселел и, ухмыляясь, спросил:
— И что ты собираешься делать с отпечатком моей задницы? Ха-ха-ха! — теперь уже он игриво погрозил мне пальцем. — Я возражаю! Хотя и не могу помешать.
Гаденыш, он, значит, решил перейти в наступление, и вот — радостно скалится своей убогой шутке и добавляет:
— Лучше повесь на стену в гостиной. Пусть она смотрит на тебя.
— Жаль, что я не повернул тебя тогда спиной к Эмме и не нагнул маленькой строчной «г», — ответил я, поглядев на выкройку, — тогда в ее сознании твой образ сложился бы по-другому и гораздо больше соответствовал бы оригиналу.
— «г», «г», «г», — добавил я, выстреливая в Шарля именно этими не прописными мягкими, липучими буквами.
Я хотел было высунуть голову из окна, чтобы плюнуть ему на туфли, но подумал, что этот ненормальный может тяпнуть меня кулаком по макушке и смять трахею об опущенное стекло. И не стану я отмывать своей слюной его башмаки, в которых водится пара, наверняка дурно пахнущих конечностей. На лице моем отразилось отвращение, вызванное последней мыслью, я завел машину, обогнал Эмму, затормозил перед ней, поднял и показал ей вырезанный кусок кожзаменителя все еще сохранявшего две овальные вмятины. Я выразительно потыкал пальцем сначала в каждую из них, потом в сторону догонявшего нас Шарля, мимикой подтвердил долженствующую возникнуть у умницы Эммы догадку о ценностной тождественности Шарля и отпечатка его собственной жопы, потом исказил лицо так, что сморщенный фиником нос мой стал геометрическим центром единой композиции «сморщенности», выражающей идею отвращения, затем, демонстративно скомкав жалкий обрывок синтетической кожи, бросил его на дно салона. Взгляд мой перед тем, как я нажал на педаль акселератора, ясно показал Эмме, что все внутреннее пространство моего автомобиля — всегда в ее распоряжении.
Разумеется, ничего подобного не было, и до того футбольного матча Италия-Франция с инцидентом Зидан vs Матерацци оставалось еще много лет, и фильм «Маска» еще не вышел на экраны. Это все — фантазия, эксперимент с диалогами, демонстративно и в бурной форме обнажающими скрытые мои мысли и чувства. Это мой скромный литературно-научный опыт, для контраста завершенный в экспериментальных же целях пантомимой, по определению безмолвной. А также свидетельство того, до какой низости может опуститься в потаенных мыслях даже благородно любящий человек вроде меня. В действительности я и вправду заехал в тупик, вернулся, виновато помахал им. Шарль и Эмма, улыбаясь, помахали мне в ответ, Берта снизу вверх вопросительно посмотрела на мать. Они были необыкновенно похожи друг на друга, сидение моей машины было цело, как пока еще левые бампер и передняя дверь.
12
Еще через полтора года, когда я почувствовал себя достаточно уверенно за рулем, я решил предпринять первое серьезное путешествие на автомобиле. Я выбрал маршрут, проходящий по Грузии и Армении, и пригласил Шарля с Эммой. Было решено, что Берта еще слишком мала, чтобы взять ее с собой, и она осталась с родителями Шарля. Постоянные междугородние звонки, из-за которых мы теряли немало времени в дороге, ярче, чем сцены непосредственного общения Эммы с дочерью, высвечивали, очерчивали для меня Эмму-мать. Это было грустное и прекрасное зрелище. Для меня. Вот и угадайте теперь, который из переводов первого сонета Шекспира я предпочитаю. Этот?