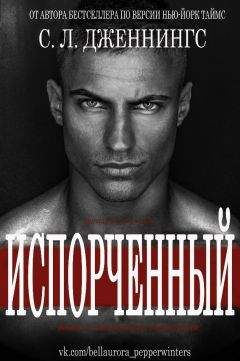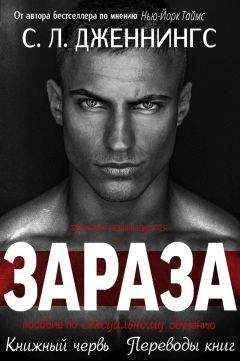Феликс Кандель - Может, оно и так…
Но вот и Финкель приземляется: туристская шапка с козырьком, чемодан на колесиках, цветок в петлице, сорванный в Гонолулу, Аддис-Абебе, на островах Фиджи или Самоа. Говорит встречающим:
— Здравствуйте, вот он я! Как же вы обходились без меня? День. Час. Минуту.
Сам и отвечает:
— Плохо нам было. Без тебя — никак.
Ликующий старик под руку с опечаленным шагают к автобусу, радуясь воссоединению.
— Что так долго?
— Набегался. Насмотрелся. Про тебя позабыл.
Ая сидит у окна в ожидании его возвращения, высматривает в опасениях. Ото-то топчется у автобусной остановки, возвышаясь над всеми, слишком приметный для обидчика, готового обхихикать слабоумного. Финкель улетает, и Ото-то огорчается — слеза из глаза. Финкель возвращается — идут в обнимку, старый под мышкой у молодого.
— Говори! — умоляет. — Где жил? Что ел?
— Жил в гостинице. Номер крохотный, по деньгам. Ванная комната узкая-узкая: чистишь зубы — локоть стукается о стенку…
«…кстати о зубных щетках, — вмешался бы незабвенный друг. — Потрясающая деталь! Для рассказа! Союз писателей может постоять за дверью!» — «Какая деталь?» — «А не украдете?» — «Ты что!..» — «В ванной. У моего героя. Десяток щеток в шкафчике. На каждой помечено: Вера, Валя, Галя… Которая останется до утра, та и пользуется своей щеткой». — «Надуманно, Гоша. Недостоверно». Фыркнул бы с небрежением, угольные тараща глаза: «Да у меня у самого семь щеток в шкафчике: Саша, Даша, Глаша…»
После полета у Финкеля прибавляются силы, и они дружно шагают по лестнице, отмахивая руками. На третьем этаже срывается дыхание, дальше едут в лифте до верхнего этажа, поднимаются по ступенькам еще на полпролета, утыкаются в запертую дверь с рукописным плакатом: «Входящий! Уважай покой этого места». Звонок старинного образца вделан в дверь, Финкель озаботился; на звонке помечено: «Прошу повернуть».
Там они живут.
Не каждого к себе пускают.
Прилетит ангел смерти, покрутит ручку звонка, подивится на его дребезжание, а из квартир закричат: «Вы не туда попали!..»
9Ривка-страдалица, их соседка, засыпает под утро в своей постели.
Всякий раз под утро.
Пугает ее темнота. Тревожит мрак за окном, многорукий и многоглазый, в отсветах дальних фонарей. По ночам Ривке кажется, что кто-то неусыпный, острозубый подгрызает ее, чтобы завалить, — подобно кипарису в Галилее, возле их дома, который упал под тяжестью льда со снегом, выказав мощное переплетение корней. Взгромоздили валун на то место, обтесали грань, пометили несмываемым словом: «Здесь стоял кипарис, без которого нам грустно».
Больные ноги. Непослушные ее руки. Ривка не желает умирать во сне, не заглянув напоследок в глубины небес, оттого и лежит с открытыми глазами до рассветной бледноты за окном, постанывает в душевном утеснении, ибо трудно человеку жить, еще труднее доживать.
Сказала Финкелю:
— Уходить не страшно. Есть, видно, резон, нам недоступный.
Сказал в ответ:
— В будущем научатся обходиться без этого и обнаружат, что стало чего-то недоставать. Им-то откроется смысл ухода, но будет поздно.
Сказала, как согласилась:
— Нет смерти, нет и печали. Скорби тоже нет. Взгляда вослед — ожиданием непременной встречи. Всё будет понарошку: болезнь, старость, боязнь за детей-внуков. Следовало бы порадоваться, а они заплачут.
Сын Ицик навещает не часто, с женой и внуком.
Расходы теснят Ицика — не вздохнуть, теснят, точнее, доходы, чего жена ему не прощает. Неуступчива в мелочах, скрытна, уклончива, слова поперек не терпит, не согласна даже с теми, которые ей поддакивают. Ицик попросит: «Свари суп фасолевый», скривится с небрежением: «Кто ж его ест?» Вскинется: «Друзей позовем!», губы подожмет сурово: «Нечего баловать». На важные встречи — в банк или к адвокату — берет для солидности мужа и обрывает, когда он встревает в разговор: «Что бы ты понимал…»
— Мать, не обижайся, — шепчет Ицик.
— Я не обидчивая, — отвечает. — Я памятливая.
Кто же откажется от прошлого?..
Дождь за окном, который не по сезону. Шальное облако провисает над домом, тяжелые капли пощечинами бьют по черепице, размеренно, не спеша, за какую-то провинность.
Птицы разъясняют:
— Тиф-туф, Ривка… Тиф-туф…
— Куми, Ривка… Кум-куми…
Это уже не птицы — крохотная филиппинка, обликом похожая на медлительного глазастого лемура, которая кормит ее, моет, перестилает белье, взбивает подушки к облегчению скорбей. Плохо говорит на здешнем языке, хорошо понимает; голос ее подобен чириканью за окном, не беспокоит — не отвлекает: пора открывать глаза.
Сын сказал:
— Что-то часто ты стала болеть.
Ответила:
— Не говорят правду немилосердно. В моем возрасте от этого дряхлеют. От жалости дряхлеют тоже.
И бурно состарилась.
Жили они в Галилее, неразлучные Ривка-Амнон, как жили, так и ели: в добрые годы сытно, в скудные — впроголодь. Выращивали лимоны, яблоки, авокадо; Амнон ходил возле деревьев, задрав голову, наливался гордостью, высматривая дозревающее богатство: «Шекель… Еще шекель… Еще… Нет, ребята, не прокормиться на асфальте!» По утрам, затемно, она поднималась первой, варила овсяную кашу, густую сытную кашу на молоке перед нескончаемой работой. Говорила Амнону:
— Встанешь с постели, выйдешь на кухню — нет для тебя каши. Значит, я умерла.
Змеиный страх заползал в их сердца, и она торопливо добавляла:
— Но случится оно нескоро, нескоро… Прежде научу варить овсянку.
Сидели — коленями в колени, глядели — глазами в глаза. «Облегчи, — шептала в ночи. — Ну же…», он облегчал к обоюдной радости. На поляне расцветали в избытке иван-да-марья, по-здешнему «Амнон и Тамар», — соседки советовали Ривке сменить имя для полного соответствия. Дни проходили в заботах; дальше Хайфы не выезжали, не было на то желания, да и хозяйство требовало присмотра, ибо кормились от плодов земли. Уважали хоровое пение с неуемной затейницей на экране, подпевали, взявшись за руки: «Спасибо за друга, за свет в глазах и смех ребенка, спасибо за всё, что Ты нам дал…»
— Что нужно человеку? — говорил Амнон. — Побольше благодарности. Каждому по его заслугам.
Ривка с ним соглашалась. Вот они, налицо, их заслуги и благодарности: дом, хозяйство, авокадо на ветвях, — им бы еще пожить, коленями в колени, глазами в глаза, но Амнон заболел, всё потихоньку захирело, завалилось, усохло; листва осыпалась без полива, с поливом тоже осыпалась. Не хотел добровольных помощников, не пускал наемных работников: «Глазами бы всё сделал, да сил нет. А они наработают не так…»
Амнона похоронили на сельском кладбище.
Посреди цитрусовых насаждений, осыпающих по весне лепестками.
На камне пометили: «Амнон, муж Ривки», так он пожелал.
Дом загрустил без хозяина, тихий, задумчивый, погруженный в невеселые думы; поскрипывал по ночам, поскуливал, четками перебирал воспоминания. «Бог сбрасывает в океан сорок пять потоков слез, которые заставляют мир содрогаться». Весомая слезинка — по Амнону.
«…Господи, взгляни мне в глаза! Ответь, Господи: кто встретил там моего мужа? Кто вышел ему навстречу, подал чистое полотенце — отереть пот с лица, сварил для него овсяную кашу на молоке? Забери меня, Господи, и мы с ним наговоримся, наработаемся, надышимся — только позволь…»
Радости не стало без Амнона, утратилась способность удивляться, истаяли чаяния и надежды. Сношенное тело. Сношенные чувства. Ривка переехала в город, где живет Ицик, но здесь и рассветы запаздывают, дожди утекают ручьями через сточные решетки, не оросив поля, обездоленная почва закатана черным панцирем и не белеет гора в отдалении, покрытая снегом. Кашу варит ей филиппинка, с которой не поговоришь по душам, не споешь на два голоса: «Спасибо за друга, за свет в глазах…» Ривка тоскует на последнем этаже, повторяя слова Амнона: «Нет, ребята, не прокормиться на асфальте…»
Сказал Финкель:
— Я — человек с асфальта. На нем родился, с него уйду.
Сказала Ривка:
— Душа твоя наша. Плоды приносящая.
— Не наши — они кто?
— Дремучие, чащобные, в норах, оврагах, буреломах, с тайнами-недоговорами. К ним не притиснешься. С ними не разживешься.
Ривку огорчают дни, недожитые с Амноном; в бессонные ночные часы она заполняет их событиями, которым не быть.
— Мир жесток к нам, теперешним. Болезнями, затоплениями, трясением земли, прочими бедствиями, народами претерпеваемыми. А мы жестоки к себе.
10На лестничной площадке стоит стол со стульями, картинки по стенам, лампа под голубым плафоном. На столе электрический чайник, чашки, сахар-печенье, в углу кадка с пышной геранью, за окном россыпь огней по холмам — светящимися фишками, раскиданными наугад, единым броском, в надежде на выигрышный расклад.
Они живут под крышей выше всех в доме, а потому огородились дверью от суетного мира, где умножается скорбь, сотрясаются тела и души, затоптано то, что требует бережного касания, измызгано и отброшено в мерзости запустения.