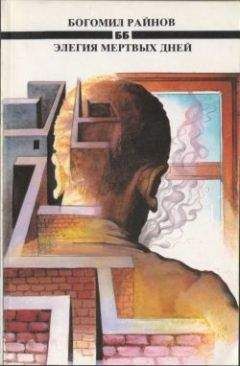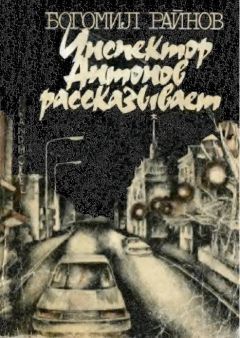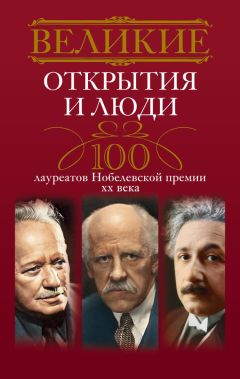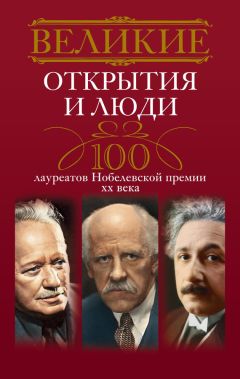Богомил Райнов - Элегия мертвых дней
Его крупной, хотя и не всегда верной добычей оказывались пьяные компании. Как правило, в таких компаниях его не переносили на дух, и не только из-за неплатежеспособности, но и потому, что считали слишком назойливым собеседником. Стоило ему подняться со своего места и, ковыляя, направиться к трапезничающим, как тотчас кто-нибудь предостерегающе поднимал руку, что должно было означать: „Пошел вон!" или „Убирайся отсюда!".
Но попадались и такие компании, которые гуляли, памятуя о старых славянских обычаях. Андрей очень ценил эти старые славянские обычаи. Можно даже сказать, что в этом отношении он был славянином по призванию. И вот неизбежно наступал момент, когда уже никто не обращал внимания на то, кто приходит и кто уходит; выждав именно такой момент, Лев подбирался к свободному стулу в дальнем конце стола. Он уже был не львом, а гиеной и, забыв о своей горделивой осанке, даже вроде становился меньше ростом, чтобы не бросаться в глаза. Он сидел с угодливой улыбкой и выражением подчеркнутого внимания на лице, словно приземлился здесь с единственной целью — насладиться мудрыми речами ближайшего оратора, ибо, как и всегда в подобных случаях, ораторов было больше, чем присутствующих, все говорили наперебой, и каждый стремился заручиться вниманием слушателя, перед которым можно излить душу.
Итак, Андрей слушал с подчеркнутым вниманием, настолько увлеченный беседой, что даже не замечал, как собственная его рука подбирается к рюмке. Он, вероятно, вообще не ведал, что творит его рука, а также и уста, что приводило к быстрому опустошению всех рюмок вокруг него, а затем и к рассеянному посягательству на саму бутылку. Вот тут-то иногда случалась безобразная сцена, и учтивого слушателя выставляли вон с вульгарными пожеланиями проведать такую-то мать. Но бывало и так, что все обходилось. Тогда Андрей не только засиживался до закрытия заведения, но и, прихрамывая, волочился за компанией, направлявшейся в берлогу одного из пьянчужек.
Конечно, как и любой горемыка, Андрей заслуживал сожаления. Однако он был слишком тучен, чтобы вызывать жалость. Тут с людьми дело обстоит так же, как и с собаками. „Ах, какая несчастная зверюшка! Бедняжка!" — прощебечет дама, наклонясь, чтобы погладить мерзнущую на морозе моську. Но та же самая дама с пренебрежением или даже неприязнью пройдет мимо большого голодного пса, который, может быть, не менее несчастен, чем моська.
Единственный человек, способный пожалеть Андрея при нормальных обстоятельствах, превратился для него в злейшего врага. Этим человеком была его жена.
Наверное, вначале все было иначе, и она каждый вечер с тревогой и нетерпением ждала возвращения любимого мужа. Затем, когда его ночные загулы участились, она стала сама ходить по кабакам, пытаясь вернуть его в лоно семьи. С течением времени, когда постоянный обход кабаков вошел в привычку, она тоже спилась.
Теперь жена не приходила забирать его. Или составить ему компанию. Или закатить скандал. Она одиноко устраивалась за соседним столиком, так как давно не была столь свежа и привлекательна, чтобы кавалеры добивались ее расположения. Заказывала стакан вина, если средства позволяли подобную роскошь, и во всеуслышанье заводила свой монолог.
Монолог неизменно адресовался супругу, хотя тот фигурировал в нем в третьем лице, а точнее как „этот мерзавец, поломавший мне жизнь". Это была своеобразная обвинительная речь, насыщенная фактами и довольно монотонными комментариями, коктейль из душераздирающих жалоб и уличной брани, обвинений, сопровождаемых извлечением на белый свет таких семейных и интимных подробностей, от которых покраснел бы любой целомудренный читатель.
Опасаясь, что ее выгонят, она воздерживалась от воплей и причитаний, но высказывалась достаточно громко для того, чтобы быть услышанной. Супруг усердно делал вид, что не слышит ее. Зато слышали другие. Так что, каким бы толстокожим он ни был, рано или поздно ему приходилось встать и взять курс на выход. Он ковылял тяжело и драматично, как исполин, идущий против напора жизни к заветной цели.
Добившись своего, супруга тотчас теряла всякий интерес к окружающему миру и бытию. Она сидела, опустив голову и вперив бессмысленный взор в столик, словно совершенно забыв о том, где она и почему. Может быть, монолог и продолжался, только теперь уже в мыслях.
Однажды я узнал, что она попала под трамвай. Траурная ленточка, а попросту не совсем чистая тряпица, появившаяся на лацкане пиджака Льва, служила подтверждением этого слуха. Лев был так рад преждевременному избавлению, что, несмотря на бесспорный актерский талант, не мог придать своей физиономии скорбного выражения. А ему очень хотелось выглядеть опечаленным, ибо это повысило бы его шансы на дармовую рюмку, причитающуюся скорбящему супругу. Но этот человек был не в состоянии внушать к себе жалость. Он казался слишком огромным и импозантным, чтобы вызывать чувство жалости.
Могучее атлетическое телосложение давало ему шанс на успех и одновременно являлось его проклятием. Проспиртованный, как музейный экспонат в стеклянном сосуде, оглупевший до такой степени, что весь его лексикон состоял из десятка фраз, причем одна их часть сводилась к примитивной лжи, а вторая — к прямым или косвенным мольбам о подношении, он вопреки всем медицинским канонам продолжал жить и крутиться вокруг квартальных кабаков или же, устроив засаду в их мрачном чреве, как некий огромный хищник, поджидал очередного лопуха. Его ровесники, ведущие размеренный образ жизни и делающие утреннюю зарядку, мерли как мухи. Уже и те, кто помоложе, стали напоминать о себе лаконичными траурными извещениями на заборах. А он, с тростью в одной руке и с легендарным пакетом — в другой, продолжал волочить свою хромую ногу из кабака в кабак, бессмертный и неисправимый, назло всем переменам в нашем преходящем мире.
В конце концов, конечно, умер и он. По крайней мере до меня дошел такой слушок, хотя я не очень-то ему поверил. Когда мне выпадает пройти мимо какой-нибудь шумной и прокуренной пивнушки, я начинаю испытывать смутное подозрение, что где-то там, в самом далеком углу, все еще прячется желтогривый лев, подстерегающий очередного простака или выжидающий, когда у собравшегося на пирушку сброда наконец взыграет славянская кровь, да так, что никто и не заметит, как Андрей присоединится к компании и молчаливо включится в поглощение напитков.
* * *Мертвые дни… Но мертвыми были не только дни, принесенные в жертву алкоголю. Изобретательное человечество выдумало многочисленные и самые разные способы угробить время. Можно играть в нарды или резаться в карты, волочиться за бабами или отрабатывать виртуозность движений в модных танцах, киснуть в кофейнях или городских сквериках, наслаждаться безделием или тупо и упорно работать, результат будет один — мертвые дни.
За доказательствами мне не приходилось ходить далеко. Одно из них, положим, дремало на кушетке в кухне — то был наш слуга. Вообще-то он сначала был слугой в академии, но оттуда его вышвырнули за хроническое безделие, и отец взял его к нам. Я забыл его имя, поскольку мы называли его Американцем или Янки. В молодости он поехал в Америку попытать счастья, разжиться деньгами, чтобы потом, вернувшись в село, обзавестись хозяйством и семьей.
Планы его сбылись лишь частично. В Америке он занялся гостиничным бизнесом — в придорожных мотельчиках или индустриальных центрах он кормил простонародье бифштексами и жареным картофелем. Скопил немного денег. Однако в этой игре — прибавить к заработанному доллару еще доллар, а затем еще один, и так до бесконечности — было что-то захватывающее, по крайней мере для таких людей, как наш Янки. Так что он продолжал игру в „доллар плюс доллар", намереваясь округлить капиталец до нужной суммы. Но так как никто и нигде не сказал, какой, собственно, должна быть нужная сумма, и поскольку на владельцев придорожных харчевен деньги не валят проливным дождем, Американец принял предложение компаньона открыть более солидное предприятие. Принял предложение и вручил тому все свои сбережения, из которых ему не было суждено получить назад ни цента. Компаньон обвел Американца вокруг пальца с такой беспощадной ловкостью, что оставалось или повеситься, или, засучив рукава, став, скажем, грузчиком, заработать деньги на пароходный билет и вернуться в Болгарию.
Янки выбрал второе и в один прекрасный день с пустыми карманами и щемящим сердцем ступил на родную землю. Он хотел стать поваром, но в ту пору никто не нуждался в поварах. Он мог бы вернуться в родное село, но стыдился встречи со знакомыми, да и возиться с землей уже отвык. Он предпочел пойти в услужение.
Готовил он действительно отменно. Благодаря ему наши обеды превратились в маленькие праздники. Однако за эти маленькие праздники платить приходилось довольно дорого. Причем не только деньгами, но и физическим трудом. Американец не был способен ни к чему, кроме кулинарии, так что всю домашнюю работу выполняли мы с братом. Покончив с готовкой очередного галла-обеда, Янки вытягивался на кухонной кушетке и погружался в тихую дрему. Устав лежать на одном боку, он переворачивался на другой или же вытягивался на спине, вперив неподвижный взгляд в потолок, как мертвец. Наверное, он занимался разбором прожитого — так же, как и я сейчас, — и спрашивал себя, где же он допустил ошибку.