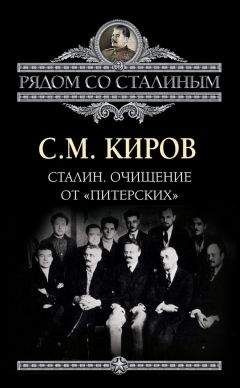Александр Киров - Последний из миннезингеров (сборник)
На этом самом уроке, на который Дмитрич, наконец-то, не опоздал, произошел некий казус, связанный с формальным подходом к пониманию текста.
Ту самую Риту, которая давеча оказалась человеком настроения, Дмитрич вызвал к доске и попросил определить в одном из стихотворений Фета все, что отличает поэтическую речь от прозаической, то есть размер, рифму и прочие неведомые для многих хороших людей вещи. Остальные ребята без особого успеха пробовали сделать все то же самое, только не у доски, а за партами.
– Анапест… Катрен… Мужская рифма… Женская рифма… – бубнила Рита.
«Эта девочка может учиться! – думал тем временем Дмитрич. – Ей все это, кажется, интересно. А не организовать ли для таких звездочек литературный кружок?»
Поставив Рите пятерку в журнал, Дмитрич продиктовал детям домаху, а тут и звонок уже прозвенел, так что пришлось литератору снова ретироваться. Выходя из кабинета, Дмитрич зачем-то (эх, зачем?!) бросил взгляд на доску. Далее он и разочаровался в стиховедении:
И в большую усталую грудь
Веет ветер ночной. Я дрожу.
Я тебя не встревожу ничуть.
Я тебе ничего не скажу.
Осталось на доске.
«Как много общего между мною и этими детьми, – думал Дмитрич, вышагивая по улице. – Мне в шестнадцать лет очень нравились большие груди. Они мне и сейчас нравятся. У Риты же грудь маленькая. Она переживает. Но ничего… Вот родит… Вот родит! И…»
Педагогические размышления Дмитрича самым бестактным образом прервал кочегар Йорданов, обратившийся к литератору с традиционным вопросом. Узнав, что Дмитрич все еще ни-ни, Йорданов сокрушенно вздохнул и пожал учителю руку.
11Уроки пошли своим чередом. День за днем, день за днем, день за днем.
«Рита – очень интересная девочка!» – продолжал думать Дмитрич, укладываясь спать примерно через неделю после «большой груди».
Рита оказалась профессиональной оговорщицей. Этому способствовали всякие такие штучки, которые есть у любого препода и, конечно же, были у Дмитрича. Литератор за годы работы в школе пришел к выводу, что класс нужно пробовать, а потом уже с ним работать. Рита помогла Дмитричу понять, как не надобно общаться с 106. Об этом можно было бы написать доклад с названием «О вреде формализма», но нам, наверное, достаточно и одного случая с «грудью», так что писать доклад мы не будем.
А Дмитрич тем временем обратился к формуле: будь человеком и разговаривай с детьми о том, что интересно тебе самому. Вот он и устраивал в начале урока по Толстому пятиминутки из Шекспира, рассказывал о трагедии «Гамлет», которую Лев Николаевич охарактеризовал довольно кратко: «Усовершенствованный „Разбойник Чуркин“». В конце урока по Достоевскому ронял реплику, что, мол, попалась ему такая книга Бернарда Шоу «Пигмалион», и вещь, надо сказать, прелюбопытная.
Вот на «Пигмалиона» и клюнула Рита.
– Прочитала я ваш рассказ, – похвасталась она в начале очередного урока. – Так себе, но прикольный.
– Так-так-так, – часто закивал Дмитрич, словно речь шла не о Шоу, а о младшем сыне самого Дмитрича, который был на самом деле долгожданным правнуком литератора, а самому Дмитричу стукнуло девяносто, – и что же, Рита, тебе показалось там прикольным…
– Ща… Я… – Рита достала из сумки книжку и открыла ее по закладке, выполненной в форме пятитысячной купюры. – Во! Элиза (Хиггинсу). Скотина вы толстожопая!
Далее Рита спохватилась, крикнула «ой, толстокожая» и довольно громко засмеялась. Впрочем, надо сказать, что смеялась она в одиночестве.
Это не смутило любознательную и день через два вежливую девушку. На следующий день она довольно громко смеялась, увидев в списке рекомендованной литературы, вынесенном на доску детской рукой Дмитрича, произведение под названием «Властелин конец». Из списка же добросовестно вычитала «451 градус по Фрейду».
После Фрейда Дмитрич стал вспоминать другие подходы к обучению трудных детей.
12«Иногда понимание литературы, – думал Дмитрич, – начинается с понимания современной литературы. Литературы сегодняшнего дня».
На следующий день умер Вознесенский, а Дмитрич пришел на уроки с гитарой.
Класс встретил его восторженно, и в течение первой пятиминутки урока в кабинет литературы подтянулись еще человек шесть «гастролеров», чего не наблюдалось с момента появления Дмитрича в школе.
– Петь будете? – полюбопытствовали третьегодницы и зарделись.
– Романсы, – предположила Настя Шемякина и сладко зевнула.
– Рокерское че-нить, – попросила Джульетта.
– Из Скорпов, – поддержал ее Ромео.
Однако Дмитрич, сообщив детям скорбную весть о смерти большого поэта, спел «Сагу», чем вызвал бурю аплодисментов. Затем литератор исполнил еще несколько малоизвестных песен.
– Я не въеду, – призналась Рита. – Че-нить проще плиз.
И тогда Дмитрич спел «Плачет девочка в автомате».
– Это, на первый взгляд, простая попсовая песенка, – начал литератор через полминуты после заключительного аккорда, собираясь далее поведать слушателям о словесном рисовании, но третьегодницы не дали ему не то что закончить, но даже и начать лекторий.
– О, мы поняли! – сказала первая.
– Мы с Махой поняли, – поддержала ее вторая.
– Мона и побазарить, – воодушевилась первая третьегодница поддержкой второй третьегодницы.
– Маха говорит, что мы сами расскажем, че да как, – прервала первую третьегодницу вторая третьегодница.
Далее они говорили поочередно.
Поначалу Дмитрич потирал руки, думая, что педагогический прием сработал, но движения его становились все менее энергичными, все более вялыми, и руки в конце концов остановились так, что со стороны могло создасться впечатление, будто Дмитрич собрался молиться.
– Короче, это стих про девушку…
– Короче, она его любила…
– Ага, ваще любила, короче…
– И переспала с ним, короче…
– Короче, да, а сама была типо девочкой…
– Ага, короче, он у нее был первым…
– Ну, первый мужик, короче, понятно, не будем подробнее, на уроке все же…
– Короче, и так типо понятно, кто был, тот знает, короче…
– И, короче, они переспали… Во-от.
– Ага, а она ему потом звонит, – это сказала Маха, сделав ударение на первом слоге. – Звонит, блин, а он козел, типо я тя не знаю и ваще отвали, плиз…
– Козел, короче…
– Все мужики такие…
– Козлы, короче, переспят и бросят…
– Потом, короче, привыкаешь, а сначала типо фигово.
– Первый раз када.
– Ага.
Современная литературная стилистика была таким образом исчерпана, а Дмитрич обратился к подробному комментированию читаемых текстов.
13И вообще: литератор решил опередить события.
– Духовные искания грозовых шестидесятых, – сказал он дома жене, – не могут быть поняты без итогов грозовых шестидесятых, а именно – без Гражданской войны. Нужно попробовать рассказать о Гражданской войне – они ведь знают Чапаева, Щорса, Деникина – а потом уже обратиться к ее истокам.
– Придурок, – пожала плечами жена, рисующая плакат ко Дню защитника Отечества.
Накануне она сказала мужу, что беременна и что аборт делать не будет ни в коем случае.
Назавтра Дмитрич рассказывал детям про Шолохова.
– …в плен к самому батьке Махно…
– А кто такой Махно? – неожиданно заинтересовалась Настя Шемякина, чему-то загадочно улыбаясь, словно чуя в словах учителя некий подвох.
– И почему «батька»? – хором заинтересовались матюгальщики, надеясь таким образом попасть в поле зрения Насти Шемякиной.
Глаза Дмитрича под очками загорелись огнем то ли педагогического вампиризма, то ли преподавательского донорства.
– Махно – один из героев Гражданской войны. Сначала он воевал на стороне красных, потом перешел на сторону белых, а после этого воевал… сам по себе, что ли. Называл себя анархистом. А батькой он стал после одного случая. Однажды у Махно осталось всего ничего бойцов – человек двадцать, не больше. Их преследовали интервенты и обложили остатки отряда в окрестностях одного хутора. Бойцы были изранены, голодны. Махно предложил им не ждать, когда их добьют в лесу, а самим напасть на врагов, тем более что иноземцы притесняли местное население, бесчинствовали, как хотели. Интервенты расположились около рынка. Махно со своими людьми под видом крестьян с обозами приехал на площадь. А в обозах под сеном были спрятаны пулеметы. В условленный момент сено полетело в стороны – и человек двести интервентов после короткого яростного боя остались лежать на площади. Тогда и раздалось от простых людей, хуторян: «Ой, да ты батько! Да ты наш батько!» Так Нестор стал батькой Махно…
Дмитрич в ходе рассказа разошелся, очки его запотели, лицо покраснело, а нос – так тот просто побагровел. Пот выступил на висках литератора. Борода как-то сама собою взлохматилась. Казалось, что он сам только что влетел в класс оттуда, с площади, на которой отчаянные махновцы крошили то ли белочехов, то ли румын…