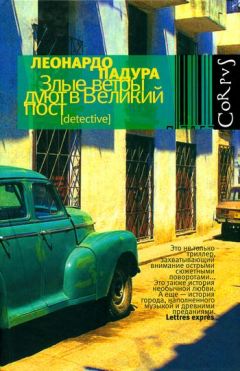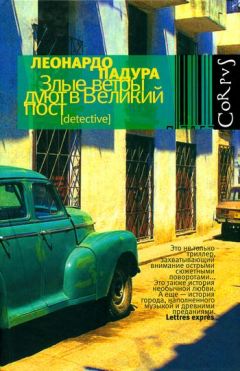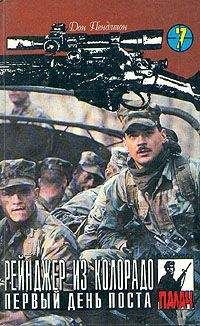Франсуа Нурисье - Причуды среднего возраста
Посетители ресторана потихоньку стали расходиться. Я прикончил свою бутылку («Месье, я возьму с вас только за то, что вы выпьете»). За вашим столиком царило веселье, ты же среди этого оживления казалась островком изумления и безмолвия. Мы не сводили друг с друга глаз. Прежде чем решиться на подобную наглость, я снял очки. Ты была неподвижной, слегка расплывчатой, такой удивленной. В какой-то момент «бежевый» парень обнял тебя за плечи, положил свою сильную узловатую руку на твое правое плечо и начал тебе что-то тихонько нашептывать. Губами он почти дотронулся до твоего уха. Ты повернулась к нему и что-то произнесла в ответ, произнесла очень нежно, как мне показалось, твой лоб почти коснулся его лба, это была почти любовная игра, почти ласка, а потом твое лицо вновь повернулось ко мне, и я опять взял его на мушку из своей засады, ты словно вернула его мне, а поскольку не стерла игравшую на нем улыбку, можно было подумать, что она предназначается мне.
Ты была не из тех девушек, что могут позволить соседу по столику в ресторане буравить твое лицо взглядом. Но мое хамство забавляло тебя, уж не потому ли, что этот твой Клод называл тебя соблазнительницей? Я попросил счет. Я был во власти сладких мечтаний, ну просто зеленый лейтенантик. В двадцать лет мне вот так же случалось порой забывать, что из-под манжет моей рубашки торчит рыжая растительность. Я бросался в огонь. В нашей жизни есть пять или шесть лет, когда, какими бы страшными мы ни были, самая легкая для нас победа — это победа в постели. Это уже потом я стал терпеть там поражения, потом, когда вовсю проявилась моя подлинная натура. Либо движения моей души были таковы, что с лица не сходило суровое выражение. Я нагонял тоску на девочек из Пасси. Они ставили мне в упрек то, что я не был в Сопротивлении, а позже не воевал под знаменами Леклерка и де Латра[3]. Я предоставил героям право форсировать Рейн без меня. В двадцать лет я был настолько беден, что не мог себе позволить роскошь повоевать. Мне всегда нужно было кого-то кормить. И именно из-за этого я постоянно терпел насмешки. Господи, как же долго они выписывают этот свой счет. Потеряв терпение, я встал. Я заметил, что ты наклонилась к центру стола, — или ты наклонилась только к Луизе? Если в ресторане кто-то делает подобное движение, то его соседи сразу же смекают, что про них собираются сказать что-то смешное. Я двинулся к кассе. Шпик, ты обозвала меня так именно в тот момент, когда я дожидался сдачи. Я вышел, унося с собой весь тот огонь, от которого полыхали мои уши и щеки. Мне казалось, я слышу твой смех, и это он гнал меня прочь.
Воспоминания о старых обидах подолгу терзали его память: не сданные экзамены, упущенные женщины. Или вот еще, в двадцать лет, эти встречи с безмятежно спокойными господами, которые ему пришлось пережить, когда он метался в поисках заработка. Она проходит, наша жизнь, но горечь от перенесенных обид никуда не девается. Они заставляли его ждать, эти господа. Отменяли назначенные ему встречи. Жизнь часто заставляла его ждать. А потом однажды вдруг начался этот спектакль. Бенуа ожил, задвигался. Он поверил во все бессмысленные и благородные глупости, которые совершались вокруг. Слово «человек» не сходило с его уст. Он возмущался по каждому поводу, все кружило ему голову, как молодое вино. Гнев был сродни бутылке, которую следовало опустошить. Позже он вкусил удовольствие от того, что стал отступником, превратился в реалиста, встал, как принято говорить, на сторону силы. К нему пришел цинизм. Он оказался в стане насмешников и власть предержащих. Ему стали смешны все эти молокососы, фантазеры, выдумщики разных теорий, краснобаи-вольнодумцы. Он стал истинным членом большинства, таким, каким становятся, заняв солидное кресло. Твердой рукой повел он свою упряжку. Друзья решили, что он, наконец, вступил в пору зрелости, но некоторые все же отвернулись от него. А еще позже — то есть практически сейчас, вот что означает это позже — все маски застыли на сцене. Все застопорилось. Бенуа Мажелан стал таким же замороженным, как в свои двадцать лет. Он больше ничего не может, он потерял власть. Он свергнутый король. А Мари, словно солнце, взошедшее на его померкшем небосклоне…
…Солнце, что ждало меня на улице, оно висело над портом, неподвижное, весело сиявшее на зимнем небе. Начался прилив, и баркасы показались над линией набережной. Я узнал машину, из которой вы все четверо вышли. Я подошел к ней. С того места, где ты сидела «У Маринетты», ты не могла меня видеть, во всяком случае, я сильно на это надеялся. На кожаных сиденьях автомобиля валялись разбросанные вещи, но не было ничего такого, что могло бы рассказать мне о тебе. Так что в тот момент ты еще не была «тобой», не была Мари, ты вообще еще не была для меня существом из плоти и крови. Номерной знак машины, выданный в швейцарском кантоне Вале, сам не знаю почему, вызвал у меня в памяти картины плодородной долины, где зреют фрукты и качаются на ветру тополя, а вовсе не картины гор. Впрочем, машина, этот важный и мрачный «ровер», тебе не принадлежала. Мои движения стали более осмысленными. Я подергал дверцы автомобиля, убедился, что они не заперты, и решил написать тебе записку, которую собирался положить на заднее сиденье. В общем, я был пьян. Все кончилось тем, что я просто сел на солнышке на парапет набережной в трех шагах от машины. Мороз начал пробирать меня до костей, но я не думал сдаваться. И тут ты вышла из ресторана и направилась ко мне. Какая горделивая у тебя походка! Ты смеялась, в этом не было никаких сомнений. Ты беззвучно смеялась, идя в мою сторону и глядя на меня так, словно мы вместе только что сыграли удачную шутку.
Где-то там дуется и злится Молисье. Ему не оказали должного почтения. Перед ним сидит Зебер и источает убийственную доброту. Зеберу не нравится нездоровый романтизм, которым Молисье подслащивает свои книги. Зеберу наплевать на метания сорокалетних и на их морщины. Зебера совсем не интересует немочка, подобранная Молисье на тротуаре бульвара Распай, которая подлила масла в его затухающий огонь. Как он подцепил ее? Показал дорогу, предложил подвезти? Этих длинноногих двадцатилетних девиц с акцентом, сипловатыми голосами и непомерной жаждой жизни можно встретить, когда они разгуливают с книгой под мышкой по кварталу, прилегающему к улицам Севр и Нотр-Дам-де-Шан, диковатые и чувственные сверх всякой меры. Их тела — погибель для мужского одиночества. Они не слишком ломаются. Они приезжают из таких мест, где женщины всегда готовы скоротать ночку. Их доступность ранит сильнее отказа. Бедный Молисье. Он теряет аппетит и начинает много пить. Дорого же она обходится ему, его Луиза или Герда. Он кружит по городу в эту июньскую жару, страсть и желание переполняют его сердце. Зебера подобные переживания оставляют равнодушным. Видимо, Молисье не смог подобрать нужных слов. Отдав все силы украшению своей поэмы витиеватыми узорами из приторного крема, он вдруг оказался бессловесным. Его немочка наверняка живет в жалкой комнатушке, в ее доме нет ни телефона ни консьержки. Бытовые неудобства имеют обыкновение охлаждать страсть. А потому он вынужден был призвать на помощь воображение: красное платье, ниспадающее мягкими складками с плеч, тронутых летним загаром, плавность движений гибкой рыбки — форели, выловленной в горной реке и трепещущей и задыхающейся в садке для живой рыбы в душном Париже; он представляет ее в музеях, в галереях, перед витринами (вот она примеряет юбку, покупает журнал) — везде, где слоняются эти двадцатилетние девчонки, за которыми тянется шлейф необузданной страсти и веселья и которые становятся добычей подкарауливающих их мужчин, за ними ведется настоящая охота, гнетущая, украдкой, тут есть все: жесты, слова, терпение, с которым обкладывают зверя, ее же уже одолевает усталость и мучает тяжесть во всем теле, ей бы поскорее лечь и отдаться — вот она, порочность. Он представляет себе все это и приходит в ярость. Ему становится страшно. Он идет по улицам по ее следам, по придуманным им же самим следам, взгляд его прочесывает толпу, выискивая силуэт в красном платье, это человек, который хотел бы удержать в ладонях ключевую воду, хотел бы пережить наяву свои ночные грезы, он долго бродит по улицам и постепенно, шаг за шагом обращает свою тоску в песню, которую теперь пытается продать Зеберу, ту самую песню, что он надеялся продать ему, Бенуа, продать быстрее и дороже, ибо он догадывается, что длинноногие девицы в красных платьях обитают и в его ночных видениях тоже. Как хорошо, что его нет рядом. Всего несколько стен, несколько дверей отделяют Бенуа от жалких откровений, которые он отказался выслушивать. Но не только Молисье нет рядом. Нет рядом и Мари. Она где-то там, далеко. И где-то там далеко озеро. И блики на воде, и покачивание на волнах, и плеск, и смех, и та загадочная мелодия ночного озера, которую Бенуа постоянно слышит с тех пор, как выдумал себе все эти мучения. Где-то там далеко весь остальной мир.