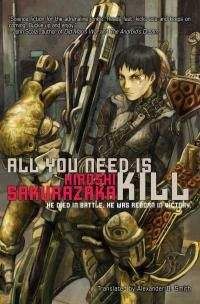Мария Эрнестам - Под розой
26 июня
Вчера я в тревоге бродила вокруг дома, по саду и вдоль моря. Я не находила покоя даже среди моих роз, хотя они пахнут сейчас просто божественно. Я вижу перед собой бутылку с маслом и уксусом: масло внизу, уксус сверху — это потому, что у этих жидкостей разная плотность. Если встряхнуть бутылку, они перемешаются и приобретут новый цвет. Точно так же происходит с хорошими и плохими переживаниями. Внизу лежат плохие, и если бутылку не встряхивать, они там и останутся. Хорошие переживания лежат сверху. Те и другие не влияют друг на друга, не усиливаясь и не ослабевая, они просто сосуществуют рядом.
Свен всегда с недоверием относился к психоанализу, он вообще терпеть не может понятия, начинающиеся с «психо» или «соц», потому что с его точки зрения идти к психоаналитику — это не что иное, как встряхивать бутылку, чтобы все внутри перемешалось. В какой-то мере он прав, хотя я не сужу столь категорично. Меня интригует этот третий цвет, получающийся в результате смешивания добра и зла.
Во всяком случае, я так растрясла свою бутылку, что в ней начался настоящий шторм, и получившаяся смесь поистине взрывоопасна. Я знаю, что не могу полагаться на свою память. Некоторые разговоры я помню слово в слово, другие смутно. К тому же, у меня теперь другое представление о времени. Несколько часов для ребенка могут быть важнее целого года. А взрослому такое трудно представить. Но повторю: пара часов иногда значит больше, чем несколько лет.
В попытке успокоиться я взяла с собой в церковь Свена. Это при том, что я до сих пор не разобралась в своих отношениях с Богом. Он там, наверху, а я тут, внизу. Мы со Свеном сидели в церкви и слушали проповедь священника о том, что все люди — комки глины, из которых сами могут вылепить, что захотят. И в наших силах сделать свое пребывание на земле как можно более гармоничным. Наверное, священник хотел сказать, что у нас есть свобода выбора и что мы способны формировать свою судьбу, надо только набраться терпения и вылепить что-нибудь пооригинальнее. В этом я была с ним согласна. Летом проповеди всегда более интересные, да и хор пел вполне пристойно, а в конце службы все посетители получили в подарок пакет с комком глины, из которого могли дома слепить, что пожелают.
Мы стояли с пакетами в руках и болтали со знакомыми, в том числе с моей подругой Гудрун и ее мужем Сикстеном, который в последнее время приобрел дурную привычку лапать знакомых женщин. Когда мужчина, которому уже за пятьдесят, хватает за грудь знакомых старушек, на него трудно обижаться. Скорее, можно пожалеть. Его-то жену не то что не обнимешь, даже не обхватишь руками — так она растолстела. Но когда-то мы с Гудрун и Петрой Фредрикссон дружили, и я хранила верность этой дружбе.
Сикстен внезапно обнял меня и поцеловал в левое ухо, одновременно пытаясь засунуть колено мне между ног. Я отстранила его и предложила слепить из подаренной глины модель его «дружка»:
— Конечно, глины там маловато. Но учитывая твой возраст, Сикстен, может, и хватит. А когда будет готово, подсуши, чтобы глина немного растрескалась. Так получится больше сходства.
Я сказала это в шутку, но Сикстена моя идея вдохновила. Вечером он без приглашения заявился к нам домой, и когда Свен был в кухне, вытащил из внутреннего кармана пиджака коробочку.
— Посмотри-ка, — сказал он.
Я нагнулась и увидела миниатюрный глиняный пенис, он даже прикрепил кору вокруг мошонки, имитируя волосы. Я сказала, что смешно в его годы заниматься такими глупостями, но вспомнила, что и сама не моложе, и возраст тут не при чем. Я посоветовала ему убрать коробочку, пока не вернулся Свен, потому что тот может не понять шутки.
Сикстен повиновался. Выглядел он не слишком хорошо: волосы мышиного цвета прилипли к макушке, серая кофта висит мешком. За чаем он долго и с чувством рассуждал о том, как это интересно — слушать проповеди, которые заставляют тебя задуматься. Когда он уходил, я протянула ему руку, чтобы не дать возможности меня обнять, и попросила передать привет жене.
— Если надумаешь, позови, у меня есть еще порох в пороховнице, — успел он шепнуть с наглым видом, но я посоветовала ему забыть об этой ерунде.
— Я женился на той женщине, какой Гудрун была когда-то, а не на той, что теперь живет со мной в одном доме, — вздохнул он.
Не успел он уйти, как позвонила Ирен Сёренсон и потребовала, чтобы я пришла к ней и кое-что принесла. Я спросила, что именно, и она почему-то разозлилась.
— Футляр от гранатового ожерелья, которое ты украла. Можешь и само ожерелье захватить, — выплюнула она в трубку.
Я ответила, что мы уже проходили это не раз, и напомнила, что она потеряла ожерелье на прогулке много лет назад, но Ирен была в ярости:
— Я знаю, это ты взяла ожерелье! Ты сама мне это сказала. Когда я тебе позвонила, ты сказала, что нашла его. Я позвоню в полицию. Кража — это преступление.
Она бросила трубку. Я повернулась к Свену и пересказала ему наш разговор. Свен разозлился: он считал, что Ирен должна ценить мою помощь и обращаться со мной получше. Весь вечер он твердил, что нечего тратить время и силы на человека, который того не заслуживает.
— На все, что ты для нее делаешь, Ирен отвечает черной неблагодарностью. Только звонит и устраивает истерики по любому поводу, а потом обо всем забывает и придумывает новый повод злиться. Поверь мне, я знаю таких людей, — сказал Свен, глядя в окно.
Я ответила, что о старых и больных нужно заботиться и что я добровольно взяла на себя такую обязанность. Кроме того, обвинения Ирен — явный признак того, что она впадает в старческий маразм и больше не в состоянии отвечать за свои слова. Свен заметил, что мои слова напоминают ему монолог никудышной актрисы захудалого театра.
— Ты что, не понимаешь? Она вызывает у тебя депрессию. Думаешь, я не вижу, как эти визиты тебя выматывают? И чем она платит тебе за заботу? Чертова жадная старуха! Хоть бы маленький подарочек на Рождество подарила!
Я ответила, что подарки мне не нужны: мы ни в чем не нуждаемся. Свен промолчал, а потом взял меня под локоть, показал на небо и сказал, что не хочет больше говорить об Ирен Сёренсон. В этом я была с ним согласна, хотя он первый начал.
Но звонок Ирен вызвал у меня беспокойство. Я не могла дождаться, пока Свен заснет и я смогу сесть за дневник. За ужином мы выпили вина, но от этого я вовсе не расслабилась, наоборот, скорее, приободрилась. Я налила себе еще бокал, взяла кусочек сыра, и вечер показался мне праздничным.
Слова Свена о подарках навели меня на мысли о Рождестве. Когда я была маленькая, на этот праздник собиралась вся семья: мама, папа и я. Мои бабушка и дедушка по отцовской линии жили за границей и редко отмечали Рождество с нами, зато мамины родители навещали нас по праздникам, создавая иллюзию идеальной семьи. Мама обожала Рождество: охотно готовила угощение и украшала дом фонариками и фигурками гномов. Ей нравился красный цвет, она вешала на елку красные игрушки и демонстрировала показную набожность, выставляя ясли младенца Иисуса.
Мы с ней никогда не занимались тем, чем обычно занимаются мамы с дочками, но Рождество было исключением. Накануне мы вместе выпекали имбирные пряники и булочки с шафраном, а иногда лепили поделки из глины или шили подушечки для сухой лаванды, которые я потом дарила друзьям и родственникам. Мы так редко что-то делали вместе, что я помню каждую деталь, каждое кушанье, каждую поделку. Казалось, темнота за окном сближала нас, и мама мирилась с моим существованием. Только в декабре она могла говорить со мной, не читая одновременно журнал мод и не разбирая документы, которые принесла с работы. Руки у нее были заняты тестом, поэтому читать она не могла, и я получала возможность задать ей любой вопрос, не рискуя услышать в ответ равнодушное «хм», «ага» или «да ну». Тогда как в течение всего года статья о последних модных новинках из Лондона интересовала ее куда больше, чем собственная дочь.
В то Рождество мне было тринадцать, я вступила в переходный возраст. Пока мои приятели играли на улице и выдумывали разные шалости, я пряталась от мира за книгами и учебниками. В школе мне нравилась математика, точная наука, где четко различалось правильное и неправильное, и верный ответ был, за редким исключением, только один, что меня очень радовало. Слова «система координат» и «интеграл» звучали для меня музыкой, я слышала в них поэзию, несравнимую с пустой болтовней о несчастной любви или красотах природы, которую мы выслушивали на уроках литературы. Любить — значит страдать. Этому меня научила история с Бриттой. А значит, не стоит стремиться к ней и рассчитывать на нее.
Своими успехами в математике я заслужила уважение и даже восхищение мальчиков из класса. Наверно, я не была такой уж непривлекательной, какой себя тогда считала. Мое искреннее равнодушие к мальчикам, естественно, разжигало в них интерес ко мне, но я этого не замечала. Одиночество казалось мне более понятным и безопасным, чем отношения между людьми, такие сложные и непредсказуемые. Меня интересовали только папа и Пиковый Король, они всегда были рядом, хотя и им доверять не стоило.