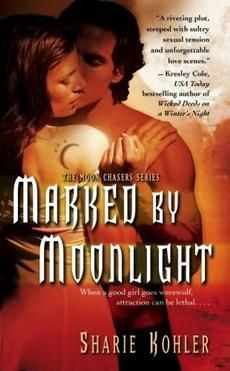Николай Климонтович - Спич
Но это позже. Сейчас он шел вверх. Для себя залог успеха он определил кратко: везение и осторожность, осторожность и везение. Чтобы везло, нужно было чувствовать момент, то есть обладать острым нюхом; осторожность же сводилась к тому, что никогда нельзя жадничать и никогда не доверять фарту, не обеспеченному и не подготовленному собственными усилиями. Если бы Равиль играл в покер, то стал бы, наверное, хорошим игроком, но — в азартные игры он не играл, даже в рулетку, так, в очко по маленькой в семейном кругу, эта привычка осталась с юности. Отметим, что когда Равиль окончательно встал на ноги, ему было едва тридцать. И параллельно с тем, как поднимался к заоблачным высотам Равиль, у Женечки тоже занималась дивная карьера: ну, для его круга, конечно.
Он легко поступил в театральный институт безо всякой посторонней поддержки, не имея ни связей, ни блата; впрочем, отец все-таки замолвил словечко кому надо, так, для очистки совести, но без отлично сданных экзаменов это не помогло бы. Поступал Женечка по департаменту критики. И сразу же попал — потом выяснилось, сыграло свою роль его вступительное сочинение — в семинар профессора истории западного театра по фамилии, как ни странно, Люмьер. К знаменитым братьям он, по всей видимости, отношения не имел, был русским французом, предки которого осели в России не только задолго до Прибытия поезда, но еще в до-наполеоновские времена, о которых сказано дней Александровых прекрасное начало. Кажется, произошло это не по обычной линии гувернерства у русских недорослей, но по линии Соединенных, что ли, Друзей. Да, как-то Люмьер во время занятий, ушедши вдруг от основной темы, помянул три буквы S — Soleil, Science, Sagesse — на таинственном треугольнике на Восточной стороне ложи злато-розового креста. Впрочем, тут же и прервал себя, простите, я, кажется, отвлекся, и продолжал о Расине.
Это был совершенно лысый смуглый господин, одевавшийся по тем временам вольно, в свободные куртки кабинетного типа, никаких галстуков, и носивший только английские ботинки. Профессор обладал каким-то обостренно умным, выразительной лепки лицом, с брыльями и глазами стареющего бассета. Имя Люмьера было окружено легендами, жизнь окутана тайной. На факультете шептались, что некогда он сидел в лагере: нет, не по масонской линии, конечно, но за связь с юным студентом. Однако подтвердить этого никто не мог. Может быть, что-то такое было, причем в этих самых стенах, но так давно, что будто и не было. Во всяком случае, сейчас он благополучно профессорствовал, обеспеченно жил один в небольшой квартире на Кутузовском, и его выпускали за границу. Попасть в его семинар считалось в институте большой удачей.
И ранней осенью, и весной Люмьер занимался со своими студентами в институтском скверике, причем в хорошую погоду, перед весенней сессией, располагались прямо на траве. Преподаватель марксизма — так случилось во втором семестре, что его пара была следующей — на просьбу студентов и марксизмом заниматься в сквере, возопил: какой на хрен сад, развели тут сорбонны. Именно так, во множественном числе. Когда это передали Люмьеру, тот лишь пожал плечами, обронил, что, мол, все логично, театр родился на свежем воздухе, а марксизм… Тут он сделал осторожную паузу и закончил а марксизм в публичной библиотеке.
Когда Люмьер читал по-французски Стулья, то выбирал одного из слушателей — так поступают многие актеры, играя на сцене как бы на какого-то одного зрителя. Однажды на таком семинаре его взгляд остановился на Женечке, тот покраснел. Разумеется, ни Женечка, ни другие студенты французского не знали, но слушали, затаив дыхание. Профессор читал кусками, потом пересказывал по-русски, снабжая комментариями. Вообще, театр абсурда, начиная с Короля Убю и кончая Служанками, был его магистральной темой. Однажды он благосклонно выслушал замечание Женечки, что наши обэреуты в некотором смысле предвосхитили Ионеско, и заметил только: положим, Альфред Жарри их все-таки опередил; вот если бы вы вспомнили Блонды, то ваше замечание касательно русского приоритета можно было бы принять.
Жан Жене его привлекал особенно, он пересказывал слушателям и воровскую истово романтичную Богоматерь в цветах, и уже откровенно гомофильский Керель, — обо всем этом в те годы было негде ни узнать, ни прочитать, не говоря уж о том, что и оригиналы были недоступны, а переведены двумя десятками лет позже.
Довольно быстро Женечка убедился, что его нынешний профессор интеллектуальнее и глубже Вацлава. В какой-то связи Женечка как-то упомянул чуму из Смерти в Венеции, и Люмьер тут же его поправил: там речь о холере. И добавил, что, мол, если Женечка имеет в виду не первоисточник Манна, а фильм Висконти, то ему можно посоветовать посмотреть и Людвига. В другой раз речь зашла о Прусте — в связи с балетом Бежара, кажется. И Люмьер упомянул страсть Марселя к Альбертине из Под сенью девушек в цвету, которая была, конечно же, Альбертом. В начале нашего века, пояснил профессор удивленным слушателям, Франция была такой же ханжой, как Америка на рубеже шестидесятых. И как Россия сегодня. Это было в те годы весьма рискованное замечание. И Женечка подумал: нет, мальчик все-таки был.
20
Женечка обожал своего профессора, и тот тоже стал его выделять. И с конца первого курса восемнадцатилетний Евгений Евгеньевич стал печататься в специальных журналах. Люмьер вдохновлял его и почти незаметно, как бы исподволь, продвигал, и Женечка стал считать его своим Учителем, своим настоящим гуру и водителем. Толчком послужила курсовая Женечки о манифесте Бретона, которая после небольших переделок ушла в Иностранную литературу с рекомендацией Люмьера. То есть, как и Равиль Ибрагимов, Евгений Евгеньевич в самом нежном возрасте тоже зарекомендовал себя вундеркиндом.
И вот в начале третьего курса случилось то, о чем и мечтать было нельзя: профессор пригласил Женечку к себе в гости. Люмьер тогда, в начале дивного московского солнечного сентября, вернулся с юга Франции, загорелый, помолодевший, непривычно оживленный. И обрадовался Женечке, быть может, не многим меньше, чем ему самому обрадовался ученик. И попросил остаться после занятий.
— У вас есть что-нибудь новенькое? — спросил Учитель.
И Женечка признался, что все лето занимался французским, и смог достать через знакомых томик де Сада. И кое-что по этому поводу набросал. Ах, милый, все одно к одному, загляните-ка ко мне, когда выдастся свободный вечерок, у меня теперь есть видео-проигрыватель и картина Пазолини как раз по вашему маркизу. И Женечка не выдержал, выпалил как школьник, мол, я и сегодня свободен. И покраснел от собственной неловкой нетерпеливости. Люмьер улыбнулся: ну, тогда завтра. И назвал Женечке свой адрес, назначил время.
Женечка явился загодя, шатался по Кутузовскому и по набережной, дважды посетил магазин Вологодское масло, что был на первом этаже Люмьеровского дома, наконец, зашел в подъезд, преодолел вялое сопротивление консьержки, которая смотрела на него подозрительно, поднялся на лифте с зеркалом и, не дыша, позвонил в дверь — минута в минуту.
Он собирался к профессору, как на свидание, обернул шею шелковым шарфом, подаренным некогда Вацлавом и научившим складывать шарф пополам, и оба конца продевать в образовавшуюся петлю, и даже подушился. Он долго сомневался, поднести ли Люмьеру цветы, и решился все-таки, на последние деньги купил скромных бледно-розовых гвоздик. И когда хозяин отомкнул дверь и пропустил гостя в освещенную только светом из комнаты прихожую, то оглядел своего ученика, и даже в полусвете Женечка заметил на губах профессора некоторое ироническое выражение.
— Входите, входите, — сказал Люмьер и провел Женечку в гостиную.
Но не сразу предложил сесть. Еще раз оглядел его и произнес фразу, которую Женечка, а потом Евгений Евгеньевич, усвоил на всю жизнь, как Отче наш. Он сказал:
— Следует чураться любых внешних знаков своей принадлежности, мы не должны ощущать себя отдельным народом. К тому же, непозволительно и безвкусно превращать частное дело в общее дело.
Тут Женечка, не ожидавший такой выволочки, покраснел как гвоздика и завял. Ну-ну, будет вам, а за цветы спасибо, я люблю цветы…
Хозяин оставил его одного, и Женечка взялся озираться. В шведском шкафу до потолка мерцали за стеклом корешки книг, все французские, отдельно стояли томики поэзии. Люсьен незаметно вошел, поставил что-то на стол, сказал полушутя Толстой у меня в спальне, а Пушкин в голове, и опять удалился. Женечка продолжал осваиваться. Нигде не было ни одной, что называется, вещички. Обок шкафа стоял ломберный столик с наборной столешницей, но это не походило на экспонат выставки антиквариата, самая обиходная привычная вещь. У стены напротив стояло бюро красного дерева с круглой крышкой, кажется, бидермайер. Назвать это мелкобуржуазной обстановкой было никак нельзя, но и интеллигентского, как бы намеренно артистического, неряшливого на самом деле, беспорядка и духа не было: ни одной как бы небрежно забытой вещи, все строго, аккуратно, опрятно. И не было ничего, что сразу говорило бы о хозяйском характере, мол, вот таков я, и таковы мои вкусы: интерьер был закрыт для поспешных оценок. На той же стене, у которой стояло бюро, над топчаном ассиметрично висели три гравюры, в строгих рамках и под стеклом. Одна — старый офорт с перспективой Невского проспекта конца восемнадцатого века, с водой и кораблями, с французскими и русскими надписями, вещь букинистическая и редкая. Вторая была несомненный Калло, и сердце гостя прыгнуло от радости, будто гравюру эту ему подарили, неужели подлинник; третью было плохо видно, стекло отсвечивало, это был офорт то ли с Фрагонара, то ли с Буше. Какой контраст с незабываемым подвалом: какая манерность там, какая здесь благородная строгость. Женечка оглянулся, увидел на круглом столе вазочку с печеньем. Пригляделся — песочное, с тмином, вот, одно только печенье, больше ничего общего…