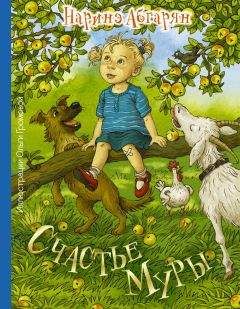Назым Хикмет - Жизнь прекрасна, братец мой
Я удивился, что в Стамбуле ему доводилось слышать мое имя. Потом поразмыслил: может быть, он слышал обо мне как о карикатуристе?
— Если вы изволите немного подождать, Ахмед-бей, то в «Таш-хан» можем вернуться вместе.
— Нам надо заехать еще кое-куда, — вмешался эрзурумский поэт.
— Как вам угодно!
Рашид повернулся ко мне:
— Увидимся, Ахмед-бей
По дороге эрзурумец сказал:
— Ты с этим типом водиться не вздумай. Темная личность. В Анкаре вообще с теми, кого не знаешь давно и хорошо, не встречайся.
На улице стояла кромешная тьма. Нам повстречались патрули.
— Анкара — это Ноев ковчег, — вздохнул поэт, — Ноев ковчег, который плывет по волнам потопа погибшей Османской империи. Конечно, он доплывет до земли обетованной, все голуби, змеи, львы, тигры, волки и ягнята, которые живут в нем бок о бок, тоже доберутся до земли обетованной, и уж там-то змеи съедят голубей, волки — ягнят. А львы с тиграми передушат друг друга.
Кофейни давно закрылись. Мы подошли к Сенному базару.
— Здесь повесили того индийца, Мустафу Сагира,[28] английского шпиона, — сказал поэт.
Когда мы прощались у входа в гостиницу «Таш-хан», он повторил:
— С Рашидом дружбу не води. Как бы чего не вышло. Понял?
— Понял.
Мустафа Кемаль-паша живет за городом. Окружен лазами-телохранителями.
Западный фронт и близко, и в то же время достаточно далеко. Говорили, что во время второй битвы при Инёню, которая продолжалась с 23 по 31 марта этого года, отголоски пушечных залпов были слышны в Анкаре. Не знаю, правда это или ложь, но, когда греческие войска начали наступление на Анкару, государственные учреждения и богачи на поездах, на тарантасах, на арбах покинули Анкару и перебрались в Анатолию. А после того, как греческие войска, «уступив нашему оружию поле боя», отступили, некоторые из уехавших вернулись, а другие добрались до Сиваса.
Самые плодородные земли в Анатолии, самые талантливые города в руках врага, пятнадцать вилайетов[29] и уездов, девять больших городов, семь озер и одиннадцать рек, три моря и шесть железных дорог, и миллионы людей, наших людей, в руках врага.
Я встретился с двоюродным братом, сказал:
— Хочу на фронт.
— Нельзя, — сказал он.
Я начал настаивать.
— Я поговорю, — ответил он.
Когда спустя три дня мы встретились вновь, он с таким видом, будто сообщал мне радостную весть, сказал:
— Я поговорил. — С кем, он не сказал, но дал понять, что говорил с каким-то очень значимым, сидящим на самом верху человеком. — На фронт тебе ехать не разрешили. Но тебе найдут должность в Управлении по делам печати.
Я не попытался узнать, почему мне не разрешают ехать на фронт. Я, возможно, мог бы и поупрямиться, мол, непременно пойду на фронт, и, может быть, мне бы разрешили, но я не стал.
— Я не хочу работать в Управлении по делам печати. Найди мне место учителя в каком-нибудь городке.
Он посмотрел на меня так, как умные смотрят в лицо законченным дуракам, и неделю спустя я, вновь нагрузив чемодан на ишака, отправился пешком в Болу. Погонщик мой был хромой.
ПЯТНАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА
Ахмед вновь от корки до корки перечел сборник стихов, оставшийся после Зии. Кто знает, в который раз он его читал? Он вылил на земляной пол воды. Попытался лепить фигурки из глины. Сначала голову Аннушки. Не вышло. Потом — кошку. Тоже не вышло. Затем попытался написать стих. Только он не знал, о чем писать и как писать — тоже. Сколько себя помнил, никогда не мог освоить аруз.[30] Да и разве пишут сейчас арузом? Он попытался написать что-то размером хедже,[31] ритмом семь на семь. Тем размером, каким написано: «В какую гавань держит путь стомачтовый тот корабль?» «Разлука — лишь ветка, роза моя; ты — самый горький плод». К слову «плод» можно подобрать кучу вариантов рифм. Но для написания второй строчки ни одна так и не подошла. «Если я стану поэтом, то любовных стихов писать не стану», — говорил я Аннушке. И откуда мне пришло в голову писать стихи? «В этом чертовом мире…» А почему это мир — чертов? Мир прекрасен. Что значит — мир прекрасен? Что прекрасного в мире? Для скольких процентов людей мир прекрасен? Людей — превеликое множество. Они даже не задаются вопросом: «Прекрасен ли мир?» — они живут среди несправедливости, голода, жестокости и смерти так, словно в мире нет несправедливости, нет голода, нет жестокости, нет смерти. Сколько процентов людей сражается с несправедливостью, жестокостью, смертью? Вот, мы сражаемся. Толпы людей, поднимающие революции на баррикадах, сражаются. А разве я не сражаюсь? Ожидая, когда проявится бешенство и я подохну от пули Измаила? Ах ты черт побери!
ШЕСТНАДЦАТАЯ ЧЕРТОЧКА
В Болу сменился мутасаррыф.[32] Преподаватели местного лицея, месяцами не получавшие жалованья, убеждаемые Ахмедом, решили идти к новому мутасаррыфу жаловаться, а если понадобится, то и бороться за свои права. Однажды в четверг, после полудня, выбранные представители, собравшись в кофейне «Айналы» — с большим зеркалом, — в гневе направились к правительственному особняку. Они прошли через рынок: преподаватель богословия родом из Румелии Шабан-эфенди и Ахмед — впереди, учителя математики, истории и литературы — позади. Шел дождь. Они следовали под зонтиками: один впереди, трое — позади. Ахмед был без зонта. Базарные торговцы и ремесленники с уважением и надеждой поприветствовали эту маленькую гневную процессию. Все до единого учителя, включая Ахмеда, имели на рынке долги. И весь рынок знал, зачем они идут к новому мутасаррыфу.
Они повернули за угол. Дождь усилился. Ахмед оглянулся. Позади из трех зонтиков осталось два.
— А где же наш литератор?
Историк ответил:
— Остался на рынке купить сигарет. Он нас догонит.
Учитель богословия Шабан-эфенди проворчал:
— Аллах Всемогущий, разве время сейчас покупать сигареты?
Они дошли до садов, один зонтик впереди, два сзади. Совершенно вымокшая женщина в черном чаршафе без вуали увидела приближавшихся — мужчин. Отвернувшись к садовому забору, они присела на корточки, пока они не прошли. Сады закончились, они вышли на грязный пустырь. Ахмед вновь оглянулся. Позади остался один зонтик.
— А где же историк?
Математик ответил:
— Сказал, что ему понадобилось кое-куда…
Преподаватель богословия Шабан-эфенди проворчал:
— Итиляфисты[33] — все такие. В самый неподходящий момент им приспичивает. (Историк был бывший итиляфист.)
Дождь полил как из ведра. Ахмед втиснулся под край зонтика преподавателя богословия Шабан-эфенди. Когда они входили в резиденцию мутасаррыфа, Ахмед оглянулся. Сзади не осталось ни одного зонтика. А Шабан-эфенди, закрывая свой зонтик на лестнице, пробормотал:
— Ты во всем виноват, Ахмед-эфенди. Разве за такое важное дело принимаются с такими людьми?
Перед плотно занавешенной, как в мечети, дверью Ахмед обратился к сидящему дворецкому:
— Мы к мутасаррыф-бею. Скажи, что пришли учителя гимназии.
Дворецкий вошел и тут же вышел.
— Пожалуйте.
Ахмед, приподняв тяжелый занавес, вступил в комнату. Мутасаррыф сидел за столом. В черной папахе, черноглазый, крупного телосложения.
— Мы, — заговорил Ахмед, — я и учитель богословия Шабан-эфенди, пришли к вам…
Мутасаррыф жестом прервал Ахмеда:
— Вас-то я вижу, а вот где учитель богословия?
Ахмед оглянулся. Шабан-эфенди нет. Ахмед пришел в ярость:
— Шабан-эфенди здесь, остался за дверью. Прикажите, пусть он войдет.
— Он не захочет.
— Мы вышли впятером, только я…
— Вы-то мне и нужны, сядьте.
— Наше жалованье…
— Я распорядился. Получите за месяц.
— Хорошо, но мы ведь…
Мутасаррыф вновь, подняв руку, прервал Ахмеда. Нажал кнопку звонка. Велел вошедшему дворецкому принести чай и добавил:
— Передай ходже-эфенди, что за дверью, пусть не ждет.
Дворецкий вышел. Мутасаррыф поднялся из-за стола. Встал перед Ахмедом.
— Ахмед-бей, — сказал он, — мне известно, кто вы такой, каковы ваши убеждения, какую деятельность вы ведете в городе и окрестных селах. И ваши товарищи тоже мне известны. Бухгалтер Осман-бей и судья уголовного суда Юсуф-бей. Известны мне и ваши сторонники.
Он замолчал, затем, положив свою огромную руку. Ахмеду на колено, медленно продолжил:
— Греческие войска наступают на Анкару.
— Что вы говорите? Опять?
— Анкара может пасть…
— Анкара может пасть? И что же будет, если Анкара падет?
— Мы объявим здесь большевизм.
— Большевизм?!
— Меня вы объявите президентом. Да и, по правде говоря, русские помогут. Мы создадим армию, освободим Анкару. Готовьте наших сторонников. Однако сейчас им обо мне ничего не говорите.