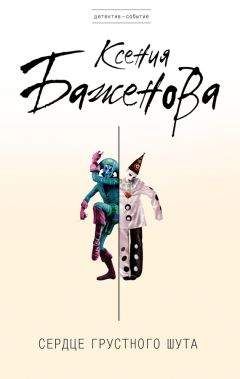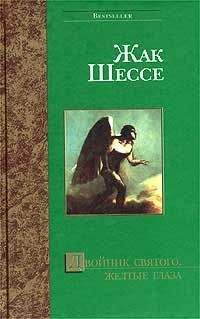Владимир Рыбаков - Тавро
— Почему?
— Потому что еще никто не ответил на вопрос: может ли рождающаяся демократия победить рождающуюся диктатуру.
Мальцев скривился:
— Однако вы не оптимист. Спасибо, что приняли. Я подумаю над вашими словами.
Топорков ничего не ответил. Этот паренек вызвал в нем тоску по чему-то позабытому и сладостному. Это не память по родной земле надела маску чувства… да и было ли такое время, когда он стоял, а хотелось упасть от отчаяния, глядя на поезда, уходящие на восток, в Россию. Он тогда, кажется, плакал. Болело раненное красными плечо… он ли не хотел социализма? Они были на одних выборных листах с большевиками. Союзники!
Топорков перестал перелистывать в уме свое прошлое и ставить, где подсказывала мысль, восклицательные знаки. Он так и не узнал, что только что ушедший советский человек вызвал своими резкими движениями и голосом отрывок юности: его ветхому телу захотелось попасть в ту баньку, куда он ходил с давно позабытым лучшим другом более полувека тому назад — они делали тоги из длинных полотенец и, расхаживая по предбаннику, упорно занимались переустройством общества… Много говорили о Жоресе.
То приятное, что только ворохнулось в груди и ушло, имени своего не назвав, оставило Топоркова равнодушным. Он не верил ни в жизнь, ни в смерть. Ему было только любопытно наблюдать за окружающим его миром — и потому он хотел это делать как можно дольше.
Мальцев спускался по лестнице дома русского социалиста хмуро-задумчивый. Дверь парадного подъезда не открывалась. Мальцев с силой рванул. Не поддавалась. «Даже выпить не дал. Чаю не предложил. Старая коряга!» Вспомнив, что во Франции для того, чтобы открыть дверь, необходимо нажать кнопку, Мальцев выругался. Нажал. Вспыхнула над головой лампочка. Сплюнул. Нажал другую. Дверь щелкнула замком и выпустила его восвояси. «Будь ты проклята!»
Что? Кто?.. Не дверь же.
Топорков все же поразил воображение Мальцева. Тучка точно над его головой сильно побурела. Мальцев улыбнулся ей своими толстыми губами — глазами не захотел. Тучка выцвела. Она играла с ним свою игру с помощью солнца. Пусть. Не забавлялся ли с ним Топорков с помощью истории? Действительно ли марксизм становился в конце века очередной философией, умело критикующей настоящее и наивно возвышающей будущее? В конце концов народные массы взаимодействуют не через сочинения философов.
Десятки месяцев учил Мальцев «передовое учение». Многих покоряла нехитрая сложность марксизма. Молодых людей, сызмальства лишенных возможности сомневаться, пленяло быстрое открытие законов, обусловливающих развитие человеческого общества. Это знание поднимало человека на вершину из вершин — на путь, ведущий к власти по праву знающего истину. Мальцев видел, как его друзья, не любящие власть, продолжающие к ней относиться саркастически, наливались уверенностью… Они легко, произвольно обращались с философиями — они уже знали, к чему шла мысль тысячелетия. Один паренек — он потом стал парторгом на одном крупном заводе — прямо сказал Мальцеву за кружкой ерша:
— Слушай, Свят, скажу я тебе истину истинную: марксизм, хошь не хошь, является легитимацией нашей говенной власти — и с этим ничего не поделаешь.
Мальцев же был горд тем, что учение не сумело его победить. Он боролся с ним, искал как мог и где мог слабые его места, ночи напролет пытался доказать, что классовой борьбы не существует, что сами классы — фикция. Подобные мысли казались порой дикими ему самому. Идти против Маркса! Спрашивать себя, не сумасшедший ли он, не казалось Мальцеву нелепостью. И он невольно уважал великое учение: за силу, за неизбежность.
То, что сказал этот не живой и не мертвый социалист смутило Мальцева. Выходит… не было неизбежности.
Мальцев был серьезен. Как человек, который по привычке знает, что за особое им не произнесенное слово его могут лишить свободы на много лет… если оно будет произнесено.
Теперь поздно. Теперь это все — лишнее знание. Он может орать, надрывать глотку. И его не арестуют, не посадят, не будут допытываться — откуда? как? Хуже. Его не будут слушать.
Счастливая Франция. Чтоб ей…
В тот день Мальцев долго бродил по узким вихляющим коридорам города. Глядел по сторонам, прислушивался к себе. За одной маленькой площадью следовала другая — совсем другая. Город словно размышлял век за веком этими площадями.
Мальцев куда-то торопился, слушал нетерпеливо свою жизнь, а она ему отвечала усталостью, стукающей изнутри в ребра. «Хватит! Надо передохнуть. Не то, друг, рехнешься». Да, да. Нервы расползались волокнами. «На работу, на работу. И надеть шоры. Нагруженный сном валиться на кровать. Эх!»
Проходя мимо дома Гизов, Святослав Мальцев с нежностью погладил шероховатую высоченную стену.
Через несколько часов он наткнулся на главпочтамт, машинально зашел, подошел к окошку до востребования. Ему дали письмо. Не из Союза от друзей, как подсказывала глупая надежда, а из Парижа в Париж.
«Мой старик мне рассказал о тебе. Давай познакомимся. Каждую субботу мы с друзьями собираемся у старика. Адрес ты знаешь. Жду. Пока. Приходи после восьми.
Бриджит».
Мальцев сразу вспомнил сенатора Булона, старика, влюбленного во все еще юную для него мадам-товарищ Мальцеву. Бриджит. «А что, в сущности, эта девчонка вполне могла быть дочерью моей матери, — со смешинкой подумал Мальцев. — Надо будет познакомиться. Ей повезло, что мадам-товарищ Мальцева была коммунисткой… и мне тоже».
Мальцев в мягкой задумчивости стал искать путь к улице Тани — бездумие рисовалось ему счастьем.
Ночью, положив щеку на ее крепкую руку, он подбирал нужные слова.
Таня молчала, погрузившись в несчастье. Мальцеву она стала чужой, он не любил ее. Она знала это с первой ночи, но согласилась узнать только теперь. Почему он? В сущности, Таня считала себя русской ради забавы, но только изредка отдавала себе в этом отчет. То, что она захотела ребенка от этого советского парня, было неестественным — она знала, что он не женится на ней.
Мальцев искал что-то, не ее и не в ней. Во сне он часто стучал зубами, как от страха, произносил отрывистые слова, полные грязи. Иногда стук переходил в скрежет, будто его сон дышал злобой. Таня тогда гладила его лицо, не понимая, откуда в ней такое острое чувство. Ей было больно долгой болью — она не могла раньше подозревать, что сны других людей могут приносить столько страданий. Раз, когда он стонал, раскинувшись на кровати, мешая ей своим большим телом, Таня заплакала. Она уже была беременна. Потом она высушила поцелуями свои слезы на его лице. Мальцев лежал, и она боялась, как бы он, проснувшись, не услышал жизнь ребенка — его ухо было точно над будущей головой его сына. Она назовет его… Таня так и не придумала — тревога оказалась сильнее надежд.
Мальцев проснулся и замолчал. Куда делось ее легкое пренебрежение к его угловатости, презрение к его глупой страсти к демократии? Теперь Таня благодарила Бога: она не сказала, что голосует за левых. Он бы не простил. Было страшно подумать. «Скатертью дорога», — говорила она еще так недавно. «Не смогу я без него», — думала она теперь.
Когда Мальцев заговорил, мышцы ее живота под его ухом сильно напряглись:
— Вот что, надо же что-то делать… — (Таня старалась, зажмурив глаза до красных точек под веками, внушить ему слова: «Давай поженимся, давай поженимся, давай поженимся!»)… — да, вот, дело такое, что не могу же я ловить ветра в поле и ждать, пока манная кашка с неба в рот свалится. Деньги кончаются, Фонд помогает, но, сама знаешь, жить на эти копейки нельзя. Буду работу искать. Я все-таки был сварщиком четвертого разряда. Не могу я дольше у тебя жить, еще несколько недель — и нахлебником стану. Ты мне поможешь устроиться на работу?
Таня постаралась втиснуть в свой голос легкомыслие:
— Конечно. Не беспокойся, все будет хорошо. Но почему тебе непременно нужно искать другую квартиру? Живи здесь. Места, как видишь, достаточно. Квартирная плата высокая. Не вижу, почему тебе надо искать другую крышу над головой. А работу я тебе найду. И для чего быть рабочим?
Переводчики нужны. У тебя французские документы. Знакомых у меня много. Неужели ты не хочешь быть переводчиком?
Голова Мальцева резко оторвалась от ее тела. Опустевшему месту стало холодно.
— Нет! Не хочу! Ясно?! Не для того я родину бросил, от нашей власти ушел, чтоб на нее на свободе работать. Хоть миллион дай — не буду! Я на завод пойду. Хочешь — помоги, не хочешь — сам выкручусь. А жить у тебя не буду. Ты должна у меня жить, не я у тебя. Так было, так есть и так будет.
— Консерватор.
— Что? Что ты хочешь этим сказать? Может, ты коммунистка?
Таня испугалась, стала целовать.
— Глупый, ты, глупый, глупый…
Когда страх его потерять растворился в нежности, она сказала с тем женским мурлыканием в голосе, перед которым не может устоять мужчина: