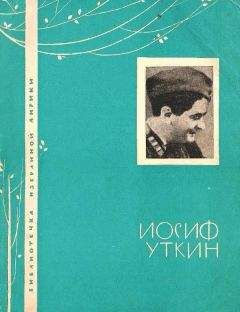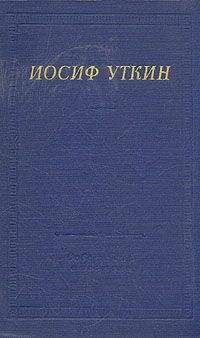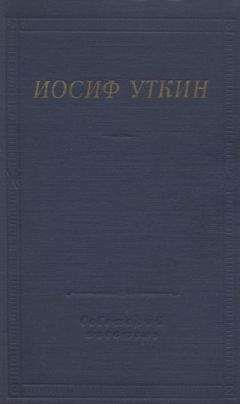Денис Драгунский - Архитектор и монах.
Но не будем забегать вперед.
Итак, у Леона был кабинетик, и он там работал. Вот и в этот вечер он сидел над своими бумагами. Он любил перечитывать то, что написал раньше. Старые статьи.
Вдруг Наталья Ивановна услышала какой-то шум. Она вбежала в кабинет. Ей показалось, что мелькнуло что-то за окном. Но там, со стороны двора, росло дерево. Но, возможно, это были ветки. «А скорее всего, — подумал я тогда же, — это она уже потом додумывала, ей потом, задним числом, показалось, что она что-то чувствовала и подозревала».
Она описала комнату. Мне кажется, что она неправильно описала. Лампа не там стояла. Лампа стояла не слева на столе, как она говорила, а справа, ближе к комоду.
Леон вовсе не сидел за столом, склонившись над рукописью. Он сидел у комода, подвинувшись к нему на своем рабочем кресле. Ящик комода был выдвинут, набитый бумагами ящик. Там была кипа газетных вырезок. Он вытащил оттуда лист — размером в восьмушку газетного — и читал его, наморщив лоб. Видно было, что ему нравится, что он читает.
Я как будто глазами увидел это. Хотя как я мог это увидеть? Не знаю.
И почему мне показалось, что она описала неправильно, я тоже не знаю.
Я должен сказать честно, господин репортер: у нас с Леоном были неважные отношения. А если совсем откровенно, то просто плохие. Но тут одна тонкость. Это он ко мне плохо относился, а я к нему — совсем нет. Я к нему спокойно относился. Я видел его заслуги перед рабочим движением. Он моих заслуг не видел.
Но все-таки ума не приложу, отчего он меня недолюбливал.
Может быть, из-за газеты «Правда»? Оттого, что я за год до того взял его марку для газеты? Вот и вышло, что у него была своя «Правда», у меня — своя. У каждого своя правда! Но мы потом объяснились. Кажется, именно эту пословицу и вспомнили. Он махнул рукой. Возможно, я был отчасти неправ, что взял его марку. Но у меня, честное слово, не было возможности с ним как-то снестись, попросить разрешения. Тем более что его «Правда» уже практически не выходила к тому времени. И ясно, что не из-за меня. Инцидент был исчерпан.
Однако он продолжал немного сердиться.
Скорее всего, тут была чистая ерунда.
Скорее всего, нашей дружбе помешали мои отношения с Лениным.
У меня были хорошие отношения с Владимиром Лениным, у Леона — нет. Леон считал его слишком жестоким. Был такой случай — Ленин выгнал из редакции газеты «Искра» троих стариков — Потресова, Аксельрода и Веру Ивановну Засулич. Леон возмутился. По-человечески я его очень хорошо понимаю, но с практической стороны понимаю и Ленина: маленькая революционная партия не может себе позволить раздавать почетные должности заслуженным старикам. Тем более что именно Ленин тащил на себе всю газету, всю работу, от сочинения передовиц до отдела писем. Чуть ли не сам читал и правил гранки! А старики только говорили умные слова на заседаниях редколлегии. И все время были недовольны. Давали ценные советы. Так что Ленин, как практик революции, был прав. Но с точки зрения морали, безусловно, был прав Леон. Мораль и политика — вечное столкновение. Вот, кстати, главная причина, почему я с наслаждением покинул политику.
Я довольно много общался с Лениным, живал у него дома. Ленин ко мне прекрасно относился, помогал. Всячески помогал — и деньгами, и осваивать марксизм. И, главное, душевно поддерживал. И я это помню. А Леон, если говорить совсем честно, Ленина терпеть не мог. Уже давно. Он писал о нем очень обидные вещи. Он называл его «барчуком». Ленин хотел быть вождем трудового народа. Но сам он был плоть от плоти дворянства. Хоть я и в ссылке — но пришлите мне ирландского сеттера и немецкое ружье, я на охоту пойду. Барин! Точнее, барчук. Потому что жил на родительское наследство.
Так вот — с одной стороны, барчук, с другой — жестокий и холодный человек, Робеспьер. Неудивительно, что это раздражало Леона. Это, к слову сказать, меня тоже раздражало — но я, наверное, не такой тонкокожий, как Леон. И вообще я жил в бедности, привык к нужде и с ранних лет умел быть благодарным за всякое тепло. А этот барственный и жестокий революционер — я говорю о Владимире Ленине — дарил мне тепло, заботу, улыбку. Домашний уют. И даже пирожки в дорогу! Когда я уезжал от него в Вену, он купил мне пирожки и сам завернул в газету, в несколько слоев, чтоб пирожки подольше были теплыми. Это меня страшно растрогало. Меня мама так не собирала в дорогу, как товарищ Ленин. Ух, как все перепутано! И я был ему благодарен, я до сих пор помню этот газетный сверток. Хотя его жестокость меня все равно поражала. Все перепутано, все невероятно перепутано. Ленин учил распутывать все сложности с помощью диалектики Гегеля и Маркса, но я не знаю, как распутать такой узел.
Вот.
Итак, вполне возможно, что Леон переносил свою антипатию к Ленину на меня. Бывает. Это по-человечески очень понятно. Друг моего врага — мой враг, ну, если не впрямую враг, то и не друг точно…
Поэтому Леон никогда не приглашал меня к себе домой.
И поэтому мне особенно удивительно, что, когда Наталья Ивановна стала описывать комнату-кабинет Леона — я как будто увидел, как той ночью Леон сидит на кособоком плетеном креслице у комода с выдвинутыми ящиками и читает вырезки из старых газет, пересматривает свои старые статьи. И на столе, справа, близко к комоду, стоит лампа.
Но вернемся в этот ужасный день. Вернемся в гостиную Клопфера. Вернемся к рассказу Натальи Ивановны.
Ей показалось, что за окном что-то мелькнуло. Тень дерева?
Сначала она увидела это короткое темное мелькание — и только потом посмотрела на мужа. Он сидел, подвернув ногу и опустив голову на стол. Сначала она подумала — что у него с ногой? И тут увидела темное пятно.
На этих словах Наталья Ивановна снова расплакалась.
Ее опять стали поить водой.
Она вытерла слезы, перевела дыхание, лицо ее сделалось строгим, и она сказала:
— Леон был убит ударом по голове. Ему пробили голову.
Все замолчали, но кто-то все же спросил, не удержавшись:
— Чем?
Бывает, что люди задают бестактные и бессмысленные вопросы. Меня отец учил не задавать таких вопросов. Особенно если кто-то умрет. Нельзя спрашивать «а чем он болел?» или «в котором часу скончался?». Меня отец много чему хорошему научил.
Кстати, господин репортер. Странная вещь: мне родные все время говорили, что отец уехал от нас с мамой — проще говоря, развелся с мамой. Да, и все говорили мне, что отец от нас ушел, когда мне было четыре года, что отец сильно пил, был настоящим алкоголиком. Якобы совсем спился. Мне это мама тоже говорила. Но это неправда. Я прекрасно помню, как мы все жили вместе, я любил отца, я помню массу подробностей про нашу жизнь. Он выпивал, конечно. Но пьяницей не был, клянусь!
Почему я все время отвлекаюсь?
Кто-то спросил Наталью Ивановну:
— Чем?
То есть «чем ему пробили голову?».
— Кулинарным топориком, — сказала она.
— Кулинарным топориком? — воскликнули все.
— Да, — сказала она и вытащила из сумки газету, и в ней — кулинарный топорик с темными коричневыми пятнами. Коричнево-бурым была запачкана вся газета. Это коричнево-бурое уже засохло.
— А! — закричали несколько человек. — Кровь!
— Но почему полиция не забрала топорик? — спросил кто-то.
Может быть, даже я сам спросил — спросил, протолкавшись поближе сквозь небольшую толпу товарищей, обступивших Наталью Ивановну, и вытягивающих шеи, и поправляющих пенсне, и потряхивающих бородками, глядя на заляпанное кровью орудие убийства.
А может быть, этот вопрос мне показался, потому что Наталья Ивановна тут же на него и ответила:
— Валялся под комодом. Топорик отлетел под комод. Я потом его нашла. Полоса крови, полоса капелек крови вела под комод, комод на ножках… И топор туда улетел. Я увидела эту полосу утром, на рассвете. Солнце…
«Косые лучи восходящего солнца…» — с неподобающей моменту несколько цинической усмешкой подумал я, но осек сам себя, и прошел к своему креслу, и сел, и плотнее вцепился руками в теплые деревянные подлокотники.
— Солнце высветило эти пятнышки, — сказала Наталья Ивановна. — Когда Леона унесли, я сидела всю ночь в его кресле… — она зарыдала.
Как это по-женски — подумал я тогда. Она как бы согревала это кресло своим телом, как бы хранила тепло Леона, жизнь Леона, еще час, еще два. Я чуть не заплакал вместе с нею.
Она зарыдала, ей снова дали воды, она всхлипнула и продолжала:
— Утром солнце из окна осветило паркет. Я увидела дорожку из капель засохшей крови. Я встала на колени, пошарила под комодом рукой. И вытащила.
— Вы его завернули в газету?
— Он уже был завернут в газету, — сказала она.
— Ага! — воскликнул кто-то. — Дактилоскопия!
— Что? — спросил кто-то другой.
— На рукоятке топорика могли остаться отпечатки пальцев! Вы знаете, что с помощью отпечатков пальцев уже давно, уже лет десять назад, научились изобличать преступников? Называется «дактилоскопия»! Во всей Европе и Америке является законным методом следствия. Преступник нарочно завернул топорик в газету, чтоб не отпечатались его пальцы.