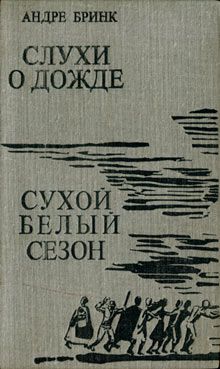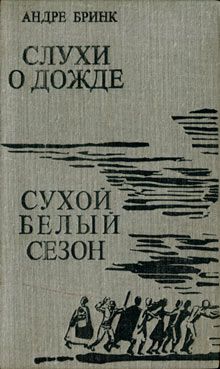Андре Бринк - Слухи о дожде. Сухой белый сезон
В понедельник я послал в Вестонарию Чарли разведать положение дел, а на следующее утро поехал туда сам. Полицейские (их было около сотни) с автоматами, охранявшие лагерь, крайне неохотно согласились пропустить меня.
— Мне не впервой управляться с мятежниками, — сказал я им.
Но все же, когда, остановившись у ворот, я просигналил, на душе у меня было неспокойно. Несколько человек в синей спецодежде поливали из шлангов землю возле обгоревшего здания конторы. Главное, сохранять спокойствие, решил я. Что бы ты ни чувствовал, лишь бы они ничего не заметили. Как со злой собакой — если, не выказывая страха, смотришь ей прямо в глаза, она не бросится на тебя.
Первым к воротам подошел Чарли. За ним на некотором расстоянии следовали остальные — человек двадцать впереди и сплошная масса за ними. Все, несмотря на июньский холод, были легко одеты, некоторые вовсе полуголые. Самое поразительное, что и Чарли выглядел таким же дикарем.
Я высунулся из окна машины:
— Откройте, Чарли. Я хочу с ними поговорить.
— Нет, — крикнул он.
Авангардная группа подступила ближе.
Я выключил зажигание и вышел из машины, демонстрируя, что я безоружен и не боюсь их.
И снова послышался гул растревоженного улья.
— Они не хотят вас видеть, — сказал Чарли.
— Не могу же я удрать несолоно хлебавши. Что будет с моим авторитетом?
— Плевать им на ваш авторитет.
Я увидел его глаза за стеклами очков, опухшие и покрасневшие. Не спал всю ночь? Или пил какую-нибудь немыслимую бурду с этим сбродом?
— Откройте ворота, Чарли! — приказал я.
Он открыл замок и приотворил ворота ровно настолько, чтобы самому проскользнуть в них. Толпа за забором подошла еще ближе.
И тут Чарли преподнес мне сюрприз. Полуобернувшись к ним, он крикнул что-то, подняв сжатый кулак. Затем нагнулся и схватил кирпич. Взглянув на меня с улыбкой, похожей на гримасу, он обеими руками швырнул кирпич прямо в ветровое стекло. Толпа заревела. За спиной я услышал шум подъезжающих полицейских машин.
Больше я не медлил ни секунды. Я вскочил в машину и рванулся прочь. Между забором и машиной повисло облако пыли.
— Зачем вы это сделали? — в ярости спросил я, когда Чарли, невыспавшийся и утомленный, вернулся на следующее утро в контору. — Взбесились?
На этот раз он не улыбался.
— А что мне было делать? Не испугай я вас, толпа разорвала бы вас на части. Да и меня тоже.
— Значит, вы просто ломали комедию? — спросил я сдавленным голосом.
— Я уволюсь, — неожиданно сказал он. — Больше я так не могу. Я стал предателем. Я помогаю вам обманывать их.
— Вы просто переутомились, дружище. Разве можно называть себя предателем, когда стараешься восстановить мир и спокойствие?
— И действуешь против своих?
— Если рассуждать в расовых категориях. А сейчас речь идет о большем.
— А кто научил меня оперировать расовыми категориями?
— Образумьтесь же наконец.
— Я сыт по горло разумностью.
— Вы в самом деле способны отождествлять себя с этой толпой? — спросил я. — Вы?
Он устало посмотрел на меня своими мудрыми, похожими на хамелеоньи глазами. О господи, подумал я, он действительно на пределе.
— Вы поможете мне? — спросил он. Его голос звучал как шорох сухой травы. — Если мы сообща что-нибудь придумаем, то, может быть, сумеем к ним пробиться. Они уже приустали.
— Пробьемся. Непременно. Я вернусь в понедельник утром, и мы подумаем.
— Лучше бы поскорее все уладить.
— К сожалению, невозможно. Мне необходимо уехать на уикенд. Вы же сами говорите, что они уже приустали.
— Ну, невозможно, так невозможно, — улыбнулся он, но лишь по привычке и совершенно безрадостно. — А жаль. Очень жаль.
* * *
Поразительно, какое сопротивление пришлось мне преодолеть, чтобы поехать на ферму в тот уикенд. Словно и люди, и обстоятельства сговорились не допустить этой поездки. Чарли. Беа. Разумеется, Беа больше всех. Но даже и Элиза, вроде бы привыкшая за двадцать лет брака к моим частым отлучкам.
— Не понимаю, зачем ехать туда на уикенд? Взял бы отпуск, и поехали бы всей семьей.
— Сейчас я не могу взять отпуск.
— Ехать в такую даль всего на пару дней. Да еще в твоем состоянии.
— Ради бога, хватит о моем состоянии! Я не беременная женщина.
— Но ведь прошло всего три месяца с тех пор, как у тебя…
— С каких пор? Я не собираюсь всю оставшуюся жизнь быть инвалидом. — Тут мне в голову пришла спасительная мысль. — Кроме того, я возьму с собой Луи.
Это ее удивило.
— Луи?
— Пора уже нам с ним поговорить по душам. Он с февраля болтается без дела. Не хочет учиться в университете, да и вообще ничего не хочет. Убеждать его бесполезно, сразу прячется в панцирь, как черепаха. Но во время поездки, я думаю, мне удастся поговорить с ним серьезно.
— Обещаешь?
— Разумеется.
Она какое-то время молчала, не спуская с меня глаз. Мы сидели за столом, в углу горела лампа. Ильза, извинившись, ушла к себе готовиться к экзаменам. Луи где-то шатался. Даже не пришел домой к ужину. Непривычно было ужинать вдвоем с женой. Обычно я допоздна в конторе, а когда возвращаюсь, просто подогреваю себе что-нибудь в духовке. А если мы оба дома, значит, у нас вечеринка, прием или что-нибудь в этом роде. Но в тот день, вернувшись из Вестонарии, я поехал прямо домой, усталый, взволнованный и без малейшего желания пререкаться.
В наступившей тишине я невольно поглядел на нее повнимательнее. Может быть, именно освещение сбоку помогло мне вдруг ясно понять: она тоже постарела, она выглядит на свои сорок два. Седые пряди в темно-русых волосах, небрежно стянутых в узел. На ней был старый бесформенный свитер, в котором она работала в саду, и, хотя в доме в нем не было нужды, она не потрудилась его снять. Но ее глаза все еще были ярко-голубыми, как бог весть сколько лет назад, как в тот день на ферме. Та же голубизна, но совсем не то выражение. Снова вопрос «Песен невинности» и «Песен опыта»? А на самом деле уже вообще никаких песен нет. Думаю, именно это поразило меня в тот вечер. Раньше я, бывало, гадал, какая из двух уживающихся в ней противоположностей возьмет верх: пасторская дочка в начале пятидесятых годов — когда такое было куда труднее представить себе, чем теперь, — совершенно голой купавшаяся со мной у плотины, или та, что вечером после свадьбы сказала мне: «Давай сначала помолимся, чтобы господь благословил нашу ночь». Но в тот вечер, в непривычном уединении за большим столом, правда по разные его стороны, такие воспоминания были неправдоподобны и неуместны. С жестокой прямотой я вынужден был признать: Элиза по-прежнему остается человеком строгих убеждений, хотя и не знающим, в чем заключаются эти убеждения, человеком, не позволяющим запугать себя, хотя и не понимающим реальности угрозы, человеком, не сворачивающим со своего пути, хотя и не представляющим себе, куда этот путь ее приведет.
После паузы она задала вопрос, который рано или поздно неизбежно должен был возникнуть:
— Зачем ты все-таки едешь на ферму? Не ради же Луи?
— Нет. Мне нужно поговорить с матерью.
Она молчала, не сводя с меня глаз и ожидая дальнейших разъяснений.
— Ей нельзя больше оставаться там одной, — продолжил я. — Она уже слишком стара.
— Мы же обсуждали все это с ней несчетное число раз. Ты прекрасно знаешь, что она не желает уезжать от могил своих предков.
— Но сейчас там становится опасно. Ферма на самой границе с бантустаном.
— Она всегда была там.
— Но черные становятся с каждым днем наглее. Пора позаботиться о матери. Нужно продать ферму и перевезти мать сюда.
Снова долгая пауза, после чего она с каменным лицом спросила:
— Сколько ты получишь за ферму?
— Это не имеет значения. Дело не в этом.
— Несомненно, именно это и имеет значение. Ты продашь ферму только в том случае, если тебе хорошо заплатят.
— Я же сказал, речь идет о матери.
— Послушай, Мартин, — морщинки в уголках ее рта обозначились чуть резче, — ты полагаешь, что сумеешь заговорить мне зубы. Ты умеешь заговаривать людям зубы, и поэтому тебе всю жизнь удается поступать по-своему. — Она принялась рассеянно играть серебряным ножичком, по-прежнему глядя на меня. — Ну? Так сколько же тебе отвалят?
— Двести пятьдесят тысяч.
— Но ферма этого не стоит! — изумленно воскликнула она. — Она не стоит и четверти этих денег.
— И все же я получу именно столько.
— И ради этого ты готов… О господи, Мартин, ты не можешь так поступить. Только не ферму.
Она положила ножичек на стол. Впервые она говорила со мной столь резко.
— Все решено. Осталось только поговорить с мамой.
В дверь позвонили. Элиза раздраженно обернулась, но я почувствовал облегчение.