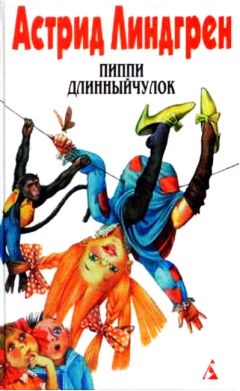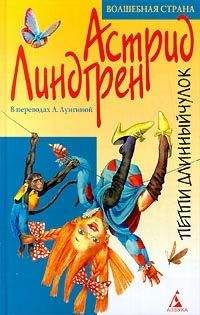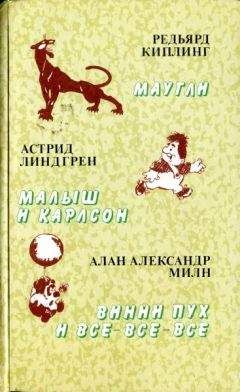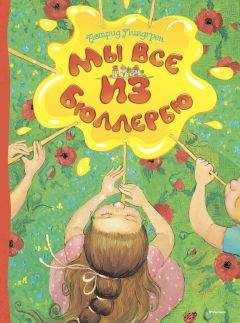Олег Куваев - Весенняя охота на гусей
Разговор шел международный, вроде как про ООН. Собеседником был Федор, он умел говорить: так, два слова, а вроде и произнес целую речь.
Потом Гаврилов отставил кружку и сказал:
– Вот эти, – он бесцеремонно ткнул рукой в сторону «республиканцев», – знаю, в свою берлогу нацелились, а молодежь, – он одной рукой отмел всех остальных, – конечно, в город, хе, поселок – район. Так?
Все молчали.
– А я думаю иначе. Изба здесь стоит, гниет – раз, сети, дедово барахло имеются – второе. Все беру под себя.
Сказав это, Гаврилов приложил так ладонь к столу, совсем как на заседании, большой человек.
– Сделаем колхозную бригаду. Для поселка там рыбка, пастухам на строганину и тое-мое. Теперь дальше. Бригада здесь и зимует. Задача зимой – подледный лов и поставить на ноги невод.
Сетками, конечно, и дальше ловить, до льда. Расчет – трудоднями. Как? И опять все молчали.
– Бригадиром этого дела думаю Федора. Самый из вас серьезный человек.
– Я, председатель, уголовник. Мне руководящие должности противопоказаны, – усмехнулся Федор. – Тут незапятнанные проворовались, куда мне.
– Эх, – досадливо крякнул Братка. – Не туда ты, братка, гнешь, понимаешь?
И Федор вместо того, чтобы придавить Братку одним взглядом, вдруг начал краснеть. Это было так странно и стыдно, что все отвернулись.
– Не Тольку же нам выбирать, – сказал Братка, и Толька. простая душа, передернул с недоумением плечами: какой из него бригадир.
– Ладно, – тяжело сказал Федор. – Если так, то ладно.
– Ну вот, – оживился Гаврилов. – А вшестером вам тут делать нечего. Двоих заберу. Пекарь у меня прихварывает, и школу надо штукатурить, и людей нет. До весны. Весной вернутся.
И опять стало ясно, что если двоим идти в поселок, то, конечно, Муханову и Саньке, ибо именно они и есть двое, так сказать, естественная спарка.
– Мне что, – сказал Муханов. – Я всю жизнь колхозник, – и посмотрел только в сторону Глухого, вновь обретенного друга, товарища по труду.
«Стружка, – подумал Санька, – вот так пенка получилась, неожиданный поворот. Узнает брат Сема, что я в колхозе, вся Москва три дня хохотать будет…» И решил: «Уйду!»
Но странная неуверенность держала Саньку. Как будто его, Саньку Канаева, ждет шикарное жилище – мечта во сне, ключ в руке – сделай шаг, а он среди старого хлама, старых стен какой-то развалюхи и не может сделать этого шага, ибо старые стены здесь – это ты, это теперешняя, какая бы ни была, но твоя жизнь. А неизвестно, что ждет в этой мечте. Может, и нет там никакой жизни.
В смутном этом состоянии Санька осторожно спросил Муханова:
– Не светит нам в колхозе, старик. Может, поищем другое?
И мрачный Муханов мрачно и зло ответил: – Светит, не светит… Все фонарики ищешь? Я тоже за колесами да за фарами гонялся. А как видишь, нету фар у моей машины. Только фонари во лбу, когда об стенку стукнусь: штрафбат, шурфы, дед. Нету фар.
Сказал и вроде как отодвинулся от Саньки поскучневший Муханов. Все тот же, рыжий, свой, но уже отодвинутый. Санька чувствовал это и думал о том, что год позади и нет ничего, все остается нерешенным, даже мерцающие перспективы вроде перестали мерцать, а ведь он искал их на дне шурфа и в рыбацкой сетке, и черт его знает где. И еще он боялся, что Муханов отодвинется совсем, уйдет. В одиночку Саньке в этих краях не жить. Тогда одна дорога – назад, битым щенком, и тогда, уж это он чувствовал точно, не уйти ему от мертвой ухмылки Пал Давыдыча.
– Ты колхоза не трусь, Санек, – сказал Муханов. – Страшного нет. Я знаю.
– Да, – сказал Санька. – С телеграммой я обожду. Они быстро ведь ходят, телеграммы.
И им стало легче, оттого, что все решилось на какое-то время, не надо думать, поживем – увидим, они даже ухмыльнулись друг другу.
– Саня! – сказал Муханов и хлопнул его по плечу веснушчатой лапой. – Успеешь ты в свой вертоград. И меня возьмешь. Может, там я найду свои фонари. Возьмешь?
– Возьму, – сказал Санька.
– Нет, – невесело усмехнулся Муханов. – Да ладно. Я с Мухановым Колькой не пропаду.
22
Их поселили в странном доме круглого облика. Муханов даже решил обойти его кругом, чтобы проверить, точно ли он такой круглый. Комната, однако, оказалась квадратной.
Вселял их бледный, озабоченный, как все завхозы мира, завхоз Голощенко.
– Вот, – сказал он. – Вселяйтесь. В соседней комнате – пекарь Людвиг. Хороший человек. В другом отсеке этого цилиндрического жилища – фельдшерский пункт. И сама фельдшерица. Хм. Я ушел.
«Тут отсек, там отсек, – подумал Санька. – Будем жить, как в подводной лодке».
Бледный Голощенко ушел и унес свои завхозовские заботы.
Они сели на голые сетки пружинных коек и стали осматриваться. Цветные, черно-белые, силуэтные, графические, в рост, профиль, анфас и такие, что виден глаз да кусочек уха, изображения слабого пола украшали стены. Видно, жили здесь до них тоскующие холостяки. Ассортимент журналов был невелик: «Огонек», «Смена» и еще «Молодой колхозник». Особо близкие холостяцкому сердцу фото были, видимо, унесены: белые квадраты и дырки от кнопок на штукатурке. Один курил «Приму», другой – «Беломор»: под койками те самые, известного происхождения, окурки – человек, засыпая с сигаретой в руке, машинально кидает ее на пол, нет сил дотянуться до пепельницы. Кто были эти ребята, куда ушли, куда унесли изображения щекастых доярок, балерин и пышущих здоровьем горнолыжниц? Может, тоже ушли, как ушел лимонный Славка. Может, сломались.
И куда, интересно, они с Мухановым понесут отсюда свои обшарпанные чемоданы, которые тащили на веревочных лямках с Кертунга, везли на тракторных санях и запихивали под нары на дедовой рыбалке.
– Саня, – сказал Муханов. – Когда попадешь на «губу», главное – не унывать, и к вечеру будет порядок. Друг-часовой подкинет курева, потом другой бедолага пронесет картишки, повар на дно котелка запрячет такое, что и комбату не снится.
– Да, – сказал Санька. – Интересно, что за комики тут до нас жили?
– Плотники, – убежденно ответил Муханов. – Плотники с длинными топорами. Построили эту деревню, взяли калым и понесли топоры дальше – другую деревню строить.
Муханов вдруг предостерегающе поднял палец.
В коридорчике, разделяющем отсеки, простучали легкие шаги, стукнула дверь, потом что-то пошуршало, подвигалось и опять – дверь.
– Пойдем, – быстро сказал Муханов. – Мы же забыли проверить форму дома, – и тут же выскочил в коридор. Коридор, однако, был пуст.
Они вышли на улицу и стали обходить циркульный дом и, когда замкнули круг, увидели, как из двери выходит что-то в сиреневом импортном плащике, что-то круглолицее с вишневыми хохлацкими глазами. Санька остановился, как ударенный током, настолько непривычен был весь этот набор из глаз, губ, плащика; и суетный грубый год Санькиной жизни вдруг отошел назад, и сладко заныло сердце.
– Ах, – сказала она, – соседи.
Плащик стал удаляться в сторону поселка. И тут Санька, еще не пришедший в себя, увидел, как Муханов странной, какой-то даже неестественной для человека походкой уже перемещается следом и что-то баритонит, – никогда Санька не слыхал у Муханова такого чарующего тембра, такого баритона.
Шевелюра Муханова вдруг приобрела даже оранжевый цвет, и на миг Саньке показалось – со спины он не мог видеть точно, – что от мухановской улыбки солнечные зайчики прыгают по темному торфу чукотской земли.
Плащик стал удаляться медленнее. Через минуту они стояли рядом, Муханов и фельдшерица, и Муханов говорил и размахивал руками, а она уже смеялась, закидывая голову, милая простушка.
Санька двинулся к ним. Муханов нес обычную тарабарщину незатейливого уличного знакомства, но столько было неудержимой силы в этой тарабарщине, что фельдшерица смотрела на Муханова с нескрываемым изумлением и все смеялась, смеялась.
Вблизи девчонка оказалась и вовсе простой, так – молодость, зубы, глаза и этот плащик: наверняка окончила медицинское училище в какой-нибудь Кондопоге или Сызрани, и только один бог да Министерство здравоохранения знают, каким ветром занесло ее в это гиблое место, дикое село, что построили плотники с длинными топорами. Санька вспомнил, как покоряли они с братом Семой надменных столичных красавиц, и попытался влезть в разговор. Но ни черта у него не получалось. Мухановский поток красноречия все нарастал, и фельдшерица даже вроде так и не посмотрела на Саньку. И в то же время сам Мухаов как-то неуловимо, – черт его знает, как это у него получалось, раз он стоял на месте и говорил, – но все оттеснял и оттеснял Саньку, и Санька очутился уже метрах в пяти, и ему ничего не оставалось, как брякнуть помимо воли:
– Ладно. Пойду посмотрю деревню.
Даже жест такой сделал, как бывало: сигарета между пальцами, небрежный взмах «пойду прошвырнусь», и, уже удаляясь, даже сказал самому себе, как тоже бывало в случае неудач в той жизни: «Ничего особенного. Мухановский товар». И даже убедил себя в этом. В общем позор был полный, в полном законченном варианте.