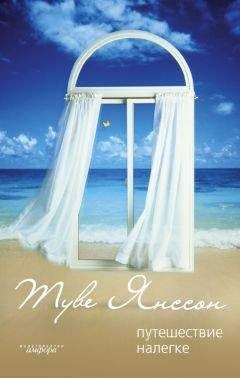Петер Эстерхази - Harmonia cælestis
~~~
48Турки давно уж оставили Кишмартон, давно уж покинули Венгрию, когда в село вдруг явились двое роскошно одетых господ. Оба они были турками. Постучались в первый попавшийся дом. Как живете-можете? С Божьей помощью. Какими судьбами к нам? осведомился хозяин дома — разумеется, мой отец. На что один из турецких господ отвечал: О, история сия длинная и печальная. А не слыхать ли в селе разговоров о женщине, которую турки угнали в неволю, но ей удалось бежать? Поговаривают, много чего поговаривают, сощурясь на них, отвечал мой отец. А было все так: двух детей этой женщины турки повезли на телеге, ее же привязали к повозке. Женщина, незаметно перерезав веревку, скользнула в канаву и убежала. Да как же ей было не совестно бросить на произвол судьбы двух малых детей? А что же ей было делать, если дома остались двое сироток, еще меньших, чем эти? К ним она и сбежала. Не слыхали ли вы про нее? За любую весточку о той женщине мы щедро заплатим. Но тщетно они упорствовали — а упорствовали турки долго, — о той женщине никто не слыхал. Was verborgen ist, interessiert uns nicht[34], говорили сельчане, владевшие не только венгерским, но и немецким. (Кроме того, жили там еще и евреи, а также хорваты.) Она уж, поди, умерла. Ни о ней, ни о ее семье не осталось и слуху. Крепко тут опечалились турчанины. Один из них говорит: А ведь мы только затем и ехали сюда из Царьграда. За какой же такой надобностью, позвольте узнать? сощурясь, спросил мой отец, хозяин дома в Кишмартоне. За той, господин, что женщина эта была нашей матерью. И с тех пор как нам стала известна история этой женщины, мы ищем ее повсюду, но, видно, уж никогда не найдем. Минуточку, сказал мой отец и, предложив басурманам сесть, велел пригласить мою мать, Марию Жозефу Герменгильду, урожденную принцессу фон Лихтенштейн. Она стояла перед ними, крупная, сильная, с опущенной на лицо вуалью, заполнив всю комнату собою, своей персоной, своим характером, своей огромной шляпой с перьями и своими юбками, шуршавшими, хотя она стояла без единого движения. Турки тут же вскочили и поцеловали ей руку, тем самым оказав моей матери честь, какой, верно, еще никому не оказывали. Ну хватит, рявкнул мой отец раздраженно, скажите лучше, не это ли ваша мать? и заставил ее повернуться, чтобы те могли осмотреть ее и спереди, и сзади, и сбоку. Нет, покачали головой турки, это не наша мама. Глубоко опечаленные, они распрощались и отправились восвояси в свой Царьград. Мой отец подождал, пока гости, незваные кстати сказать, покинули двор, и внезапно, с размаху, жестоко ударил мою мать по лицу, эту крупную сильную женщину с опущенной на лицо вуалью, заполнившую всю комнату собою, своей персоной, своим характером, своей огромной шляпой с перьями и своими юбками, шуршавшими, хотя она стояла без единого движения. Он разбил ей губы, и из уголка ее рта на пол стекала кровь. Вид крови привел моего отца в бешенство (он чувствовал себя оскорбленным, как будто этим мать нарочно хотела ему досадить), он снова ее ударил, мать повалилась на пол, где была кровь, то есть сдвинулась все же с места. Она скулила от страха. Боялась побоев, боялась боли (когда мой отец напивался, то не ведал ни Бога, ни дьявола), а больше всего боялась, что вслед за двумя возлюбленными своими детьми потеряет и моего отца. Это было бы уже слишком. Мой отец напоследок пнул валявшееся на полу тело и выбежал во двор. Он задыхался. Солнце близилось к горизонту. Постепенно он успокаивался. На душе было скверно. Дверь дома поскрипывала от порывов предзакатного ветра.
49Мой отец вернулся домой. Лицо черно от щетины, глаза в красных прожилках, того и гляди, выпадут из орбит, одного зуба, кажется, не хватает, спиртным разит за версту. Он весело смотрит по сторонам. Его недоверчиво окружают: венский двор, венгерская знать, кабинет министров, домашняя челядь, едва ли не весь Задунайский край, моя мать. Слуги тащат за ним четырнадцать дорожных баулов, четырнадцать английских кофров свиной кожи, разной формы и назначения, но единой коллекции: Richardson & Durable, London. Это что? изумились все: венский двор, венгерская знать, кабинет министров, домашняя челядь, едва ли не весь Задунайский край, моя мать. Да так, барахлишко, опустил голову мой отец. (В переводе: Предметы первой необходимости.)
50Мой отец был влюблен в брауншвейгский закат. Впервые он был очарован им по пути домой после злополучной осады Бранденбурга, и с тех пор, где бы он ни видел брауншвейгский закат, утром, в полдень, вечером, в любое время, он тут же визжал: что за прелесть! От этого вида он глаз не мог оторвать и все время пытался заставить других испытывать тот же восторг. И чего тут особенного? скучающе реагировала моя мать на завораживающий танец, прощальную космическую феерию лиловых, желтых, красных и прочих бликов. Брауншвейгский закат напоминает нам о саванне, а поскольку первобытный человек, далекий наш пращур, обитал прежде всего в саванне, мы внутренне, так сказать, антропологически к ней привязаны и находим ее прекрасной. Я в саванне никогда не была, кривила губы моя мать. Мой отец любил видеть мир, как он был представлен в школьных учебниках. Но после экзаменов на аттестат зрелости он многое позабыл. Скажем, не мог взять в толк, почему самолет летает, хотя он такой тяжелый, — возьмем, например, этот нож, много раз демонстрировал он нам за обедом: ррр-р, подражал отец звуку двигателя и тут же выпускал нож из рук; бац, вуаля, или наоборот: вуаля, бац. Вы видите, он упал! упал! видите! с отчаянным восторгом вопил он. Когда в газетах писали, что где-то затонул корабль, к примеру паром «Эстония», на борту которого, между прочим, была и его знакомая, симпатичная сестра одной симпатичной фоторепортерши, мой отец успокаивался. Ну что я вам говорил, говорил он. Слишком тяжелый! И лицо его морщилось, будто он съел лимон. Всякое тело, погруженное в воду или другую жидкость, цитировал он, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость, мой ангелок. (Из пособия для второго класса гимназии, Джон М. Проснитц.) Воцаряется тишина. Мой отец кивает. Мало воды было вытеснено, вот в чем проблема. Мало. А ведь я говорил!.. Ради прекрасной Елены на море была спущена тысяча кораблей. Представим себе, что 1 милли-елен есть часть красоты Елены, ради которой на воду спускали один корабль. По природе своей это вектор. Один отрицательный милли-елен означает, что красота ее столь велика, что один корабль должен быть потоплен. Ну что я вам говорил! («Моя жена умерла. Теперь я знаю, что это значит. Я рад, что мне больше не придется переживать подобное, и это приносит мне облегчение. Приятно также, что я могу рассчитывать на ваше участие, равно как и на участие всех других наших брауншвейгских друзей». Вот и все.)
51Мой отец — после тщательных и весьма осмотрительных приготовлений — встал раньше обычного, чтобы еще до того, как будет взрезана первая буханка хлеба, еще до того, как гайдуки Палфи подожгут мост в Эсеке, и еще до того, как начнется судебный процесс против проворовавшегося менеджмента «Агробанка», заскочить в Братиславу, тогдашнюю Пожонь, место заседаний государственного собрания, в плавильном котле которого готовилась новая, современная Венгрия. Заскочить ему нужно было к любовнице. Но еще в туалетной комнате, как бы случайно, он столкнулся с моей матерью (оказавшейся там по малой нужде), которая, как была, полусонная, не сходя с унитаза, искусно удовлетворила моего отца. Тот только пожал плечами, может, оно и лучше, вставать рано он не любил, дорога до Пожони была отвратительная, сплошные ухабы, лошади уставали, к тому же его появление в городе могло дать пищу для разного рода политических спекуляций. Он вернулся в постель, послав нарочного в Пожонь с запиской, полной изощреннейших экскузаций; а моя мать, сияя улыбкой, подала ему завтрак в постель. Она была без ума от счастья. Отец — тоже. Так в чем же тогда проблема? спросила отца моя мать (или наоборот). В скуке, ответил другой.
52Мой отец постоянно думал о моей матери. Он думал о ней, взрезая первую буханку хлеба. Он думал о ней, когда поджигал мост у Эсека. Он думал о ней, начиная судебный процесс против проворовавшегося менеджмента «Агробанка». Он думал о ней в четверг, когда перед домом подвергся нападению незнакомцев с бейсбольными битами. В стране нашей были потрачены безумные миллионы на всякого рода экономические оздоровления, забыли только оздоровить народ, и, пока этого не случится, социального мира нам не видать и отец будет продолжать думать об одном — о матери. Он думал о ней в годы, предшествовавшие Французской революции, когда окончательно обратился к классическим темам. Он думал о ней, когда стиль его утратил былую легкость. Он думал о ней, размышляя о том, куда подевался венгерский флот. Какая будет завтра погода. У моего отца был громадный письменный стол, с гладкой столешницей без прикрас, в стиле позднего, конца XVIII столетия, барокко, за которым он вершил государственные дела и при этом, опять же, думал о матери. Он думал, что, если бы моя мать тихой сапой, без слов забралась бы под этот стол и, как собачонка, мягкой своей головкой уткнувшись в колени, раздвинула бы ему ноги — на столе между тем продолжали б вершиться дела империи, решались бы судьбы, кружились фразы, дневная почта! — и дальше, и дальше, не касаясь руками, а действуя лишь подбородком, губами, носом, она (моя мать) дошла бы до пределов вообразимого, но не возбуждая при этом его до конца, а только держала, держала бы в тонусе, напоминая весь день моему отцу о полноте бытия. (Весь день, даже когда мой отец пас гусей, когда он распекал руководство молодой театральной труппы [Кечкемет!] за пренебрежительное отношение к провинциальной публике, в то время как многие, причем самые именитые мастера, отцу моему возражали. А поскольку для экономии времени мой отец и обедал за этим столом, то иногда, передышки ради, он подавал бы под стол кусочек-другой, но без слов и прикосновений.) Ангел мой, да вы извращенец, грустно констатировала моя мать, выслушивая предполагаемый распорядок дня. Но мой отец не скупился на аргументы. И, чудо из чудес, он действительно изменил чувственные горизонты моей матери, да так радикально, что временами она даже перегибала палку (образно выражаясь! ха-ха!), и тогда мой отец, пусть в шутливой форме, вынужден был предостерегать ее, точнее, напоминать моей матери, чтобы не забывала, что она все же мать четырех детей да еще католичка. Так точно, дружочек, кивала она и снова бралась за свое. Джинн был выпущен из бутылки.